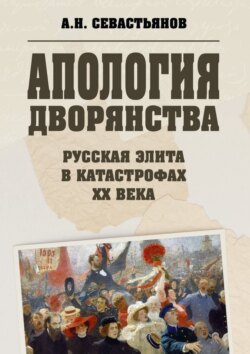Читать книгу Апология дворянства - Александр Никитич Севастьянов - Страница 12
ЭПИЛОГ. ДВОРЯНОФОБИЯ И НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО
ОБВИНЯЕТСЯ ДВОРЯНСТВО
ОглавлениеИтак, перейдем теперь к полемике по существу основного вопроса.
В предыдущей главе «Русский бунт и еврейская революция» я обильно цитировал высказывания Валерия Соловья, которого считаю идеологически ведущим в тандеме Соловей—Сергеев, относительно «культурной, экзистенциальной и этнической» чужести дореволюционной элиты России русскому народу. Эта мысль является основополагающей для обоих авторов, она – общий краеугольный камень, позволяющий им говорить как о «русской» революции, так и о дворянстве как виновнике срыва русского нациестроительства. Да и как о конечном виновнике революции, создавшем повышенное социальное напряжение, обернувшееся разрывом ткани российской государственности, – тоже. И пр.
Первая идея подробно рассмотрена выше, вторая обозначена Сергеевым так:
«Главный тезис предлагаемой ниже статьи83 заявлен уже в заглавии. Он состоит в том, что роль дворянства в русском дореволюционном нациестроительстве была глубоко двойственна: с одной стороны, именно представители этого сословия создали русский националистический дискурс, с другой – сословно-классовый эгоизм дворянства стал одной из главных причин провала русского нациестроительства»;
«Именно дворянство явилось главным тормозом отмены крепостного права, без чего никакое создание единой нации было невозможно»84.
Подробный критический анализ этой теории Сергеева в целом я приберег для эпилога, а пока обращу внимание читателя на некоторые очень важные ее детали.
Сергеев, не обинуясь, прямо указывает на Соловья как на основоположника их единой, в главном, концепции: «Соловей дает краткий очерк русской истории… Главной причиной кризиса 1917 года явилось культурное и этническое отчуждение элиты от народа, начавшееся с петровских реформ. Большевики сумели использовать в своих интересах „национально-освободительную борьбу русского народа“ и оседлали „качели русской истории“, „культивируя на стадии прихода к власти анархические настроения масс… в фазисе удержания и упрочения власти они обратились к не менее мощному государственническому началу русского народа“»85.
Надуманность и ложность тезиса Соловья бросается в глаза. Допустим, часть правящего слоя была нерусской (немцы, поляки). Но можно ли видеть в этом «главную причину кризиса 1917 года»? А как же тогда Английская революция? А Великая Французская революция? О каком этническом отчуждении может идти речь в этих случаях? Отчуждения никакого не было, а «кризисы» были, да еще какие!
Сергеев, однако, разделяет позицию Соловья, вдохновляется ею. Он лишь слегка дистанцируется от основоположника, поправляя его: «Октябрьская революция в этом смысле была народно-освободительной революцией, здесь я не вполне согласен с В. Д. Соловьем, назвавшим ее национально-освободительной. А гражданская война стала войной нации и народа»86 (sic!). Но это разногласие на деле есть лишь терминологическая микровойнушка двух историков, обусловленная крайне своеобразным пониманием нации Сергеевым87, о чем будет сказано в эпилоге. В действительности речь идет об одном и том же: российское дворянство, раскалывая нацию, послужило-де едва ли не главным фактором революции, спровоцировало ее. В свете чего большевики, возглавившие борьбу народа за «справедливость» и уравнявшие все население в социальном и юридическом смысле, предстают как истинные «нациестроители», а значит – как выразители самой идеи русской нации.
Сергеев договорил и акцентировал в своих работах то, что в несколько более черновом варианте было заявлено Соловьем. Обвинение дворянства – тема, ставшая у Сергеева главной, основной. В чем же обвиняют дворянство наши историки-дворяноборцы? Таких обвинений ровно пять:
1. Культурный разрыв с народом и культурная дискриминация крестьян;
2. Социальная дискриминация и эксплуатация крестьян (сюда входят тезисы: была-де крестьянофобия, социальный расизм, «русским было хуже, чем всем прочим», «недостаточность социальных лифтов, образовательные барьеры»);
3. Нерусское происхождение большинства дворян, в том числе наличие даже дворян-евреев и представителей других национальностей и конфессий, владевших русскими крепостными;
4. Дворяне спровоцировали революцию;
5. Дворяне сами сделали революцию.
Все это собрание обвинительных пунктов я обнаруживаю в развернутом виде у Сергея Сергеева. Поэтому и полемизировать мне придется в основном с ним, разбивая тезис за тезисом. При этом ни на минуту не забывая, что отталкивался-то он от концепции Соловья, являясь «духовным сыном» последнего.
В этой концепции, на мой взгляд, все – неправда. Отчуждение дворян от народа сильно преувеличено. Этнический характер конфликту приписан недобросовестно, облыжно. О главной причине Октября можно спорить; бесспорно только, что она заключалась отнюдь не в этом, якобы, этническом отчуждении.
Всемирная история представляет немало примеров, противоречащих такой предвзятой трактовке. Взять хоть Англию. Культурное и этническое отчуждение норманнов от англо-саксов, а тех – от римлян и кельтов, нисколько не помешало созданию английской нации, которая прекрасно себе цвела в викторианскую эпоху. Хотя всякому, кто читал «Оливера Твиста» Диккенса или «Люди бездны» Джека Лондона, не говоря уж о «Положении рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса, ясно, как божий день, что ни о каком культурном сближении элиты с народом в Великобритании и речи не могло быть: классовое отчуждение было максимальным, чудовищным (вплоть до возникновения социолектов денди и кокни в английском языке), а классовая эксплуатация мало чем отличалась от той, что процветала в многочисленных колониях Британии. То же самое можно сказать о франках и галлах во Франции (хотя такие демагоги, как аббат Сийес, призывали во время революции 1789 года порабощенных галлов восстать против поработителей-франков, но этот призыв так и остался в истории примером именно демагогического красноречия). А взять близкую к Древней Руси страну Хазарию? Разве экзистенциальное, культурное, религиозное и этническое отчуждение евреев от хазар помешало созданию химеры – хазарского каганата, разве это отчуждение его разрушило? Яркий пример от обратного дает нам Индия, где господствующие три варны (брахманы, кшатрии и вайшья) относятся к индо-ариям, а варна услужающих им шудр, а также неприкасаемые – к дравидам, но это отличие читается даже на расовом уровне, чего, разумеется, не было в России и в помине.
Так что вряд ли подобный взгляд на революции и падение царств в принципе можно назвать историческим. Да и восходит он, кстати, вовсе не к Соловью, а к тому же Джеффри Хоскингу и подобным ему зарубежным «знатокам» русского вопроса.
Но культура полемики требует от меня не ограничиваться подобными общими соображениями, а подробно разобрать взгляды оппонента, вытащив за ушко да на солнышко всех дьяволов, обильно гнездящихся в деталях. Апология дворянства стала главной моей задачей в том числе потому, что Сергеев, основываясь на тезисах Соловья, своим усиленным обвинением дворянства, в свою очередь, капитально фундирует концепцию Валерия Дмитриевича. Вынуть этот краеугольный камень – и рассыпется весь воздушный замок, в котором почивают на лаврах победившие «антирусских русских дворян» евреи, радетели, представьте себе, русского народа, и вообще большевики – «создатели русской нации».
Завершая это вступление, процитирую Сергея Сергеева, который совершенно справедливо пишет о полюбившихся ему декабристах: «Проблема декабристского национализма имеет не только научное, но и общественное значение. В современном российском массовом сознании (прежде всего, в его „право-патриотическом“ секторе) распространена „черная легенда“ о декабристах, как врагах России, агентах „мирового масонства“ и проч. Этот вздор, конечно, характеризует лишь прискорбный уровень исторического невежества самих его пропагандистов и потребителей»88.
Но ведь в точности то же самое можно сказать и о русском дворянстве в целом, оно тоже оболгано, тоже стало жертвой «черной легенды». На сей раз по вине, в том числе, самого Сергеева.
Постараюсь по мере сил раскрыть это обстоятельство.
В союзники себе я мог бы взять немалое число авторов, благо количество работ, посвященных русскому дворянству, велико. Но я остановился на двоих.
Во-первых, это Михаил Осипович Меньшиков, известный русский предреволюционный публицист, первый настоящий идеолог чистого русского национализма, наш подлинный, несравненный и беспримесный (во всех смыслах слова) идейный предшественник и авторитет. Его невероятная эрудиция, включая осведомленность в современных ему проблемах политического закулисья, острота и блеск мысли, глубокое проникновение в суть вещей, бескомпромиссная последовательность и верность интересам русской нации заставляют периодически сверяться с ним, как с компасом. И поверять собственные знания и соображения, а равно сочинения коллег по Русскому движению, выкладками Меньшикова. Исходя в том числе из того простого и очевидного обстоятельства, что ему было виднее все, что происходило с русским народом в начале ХХ века. Ведь он был не только мудрым, добросовестным и информированным автором, но и очевидцем событий. Поэтому ряд главок я насыщаю значительными фрагментами из работ моего предтечи на заданную тему. Ничто не ново под луной: Меньшикова нередко заботили те же вопросы и проблемы, что сегодня терзают нас. Он искал и находил на них ответы, всегда абсолютно адекватные и актуальные для нашего времени. Его свидетельства помогают русскому националисту протянуть через столетие нетленную нить истинной традиции.
Во-вторых, это исследовательница и писатель О. И. Елисеева, создавшая замечательную книгу «Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины»89. Будучи профессиональным историком, Елисеева добросовестно и практически исчерпывающе изучила и привела для нас в систему источники: все сколько-нибудь значимые свидетельства как русских, так и иностранных авторов об этом самом цветущем периоде русской дворянской империи, а также наиболее серьезные труды, характеризующие эпоху в целом с важных для нас сторон. Что позволило ей приблизиться к объективному пониманию «екатерининского века» в его реальном бытии, а не в умозрительных схемах ангажированных профессионалов. Эти свидетельства, как pro, так и contra, оказываются подчас совершенно необходимы, чтобы не только понять разумом, но и почувствовать сердцем, как текла в то время жизнь русской нации, столь жестоко раскритикованная вначале и столь горько оплаканная впоследствии потомками90. Я благодарен Елисеевой за проделанный огромный труд, который весьма облегчил мне полемическую задачу, и пользуюсь ее наработками, оформляя их надлежащими ссылками.
Если в Меньшикове я ищу и нахожу идейную опору, то Елисеева позволяет мне широко опираться на доброкачественную фактуру живых свидетельств мемуаристов и точных данных ученых исследователей.
«КУЛЬТУРНЫЙ РАЗРЫВ С НАРОДОМ»
И «КУЛЬТУРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ КРЕСТЬЯН»
Обоснование «чужести» дворянства всему остальному народу проще всего начинать с того, что лежит на поверхности: с культурного дифферента.
Тон задает Валерий Соловей:
«Социокультурный раскол приобрел характер (квази) этнического отчуждения и вражды, а поскольку он еще и во многом (хотя не полностью) совпадал с социальным делением русского общества, то элита и народ фактически превратились в этноклассы»91.
На мой взгляд, это чистой воды абсурд: нация (в данном случае русская) как сумма этнокласса господ и этнокласса рабов. Перед нами – неудачная попытка экстраполировать удачную находку Теодора Шанина (обнаружившего, например, в Сингапуре этнокласс китайского купечества) на другую почву и в другие условия. Но китайцы в Сингапуре – это реально «иной» этнос, чего не скажешь ни о дворянах, ни о крестьянах в России. Соответственно, не годится и такое заемное словоупотребление, призванное искусственно этнизировать классовый разрыв в России. Ошибочная трактовка шанинского концепта «этнокласса» может привести к тому, что любой народ, в том числе древний, можно будет поделить на «этноклассы», например – египтян-рабов и египтян-рабовладельцев. Но это уж будет такой очевидный абсурд… Ведь суть концепта именно в том, что в том или ином согражданстве вычленяется именно по этническому признаку некий класс, сохраняющий свою отдельность благодаря «этническому фаворитизму» (Т. Ванханен).
Чтобы легализовать термин «этнокласс» на нашей крови и почве, Соловей всячески пытается отделить от русской нации ее верхние классы, но это невозможно по определению и не соответствует истории. Я бы понял Соловья, если бы он взялся описывать еврейских предпринимателей России (составивших, по данным переписи, около 70% предпринимателей вообще) как этнокласс, но – русских дворян?!
Что оставалось ему в такой ситуации? В частности, предельно преувеличить культурный разрыв:
«Главным было не это (непропорционально высокое представительство нерусских на ключевых административных позициях. – А.С.), а драматический культурный разрыв между простонародьем и образованными классами, пусть даже в значительной мере укомплектованными выходцами из народа. Русская масса воспринимала образованные классы как враждебных „чужаков“, что со всей кровавой очевидностью проявилось в революции 1917 г.»92.
Тут на всякий случай излишне драматизируется все.
Во-первых, представительство нерусских на ключевых постах представляло собой проблему не для русских народных масс, которым традиционно все равно, кто их угнетает, чужие или свои (эта в корне ошибочная позиция пережила, однако, все революции и сейчас снова поднимает голову, грозя в очередной раз заблокировать строительство нации), а именно и только для русского сектора российской элиты, вынужденно оказавшегося отчасти в положении контрэлиты. Вполне очевидно: не народ, а именно русские дворяне конкурировали с немцами (и др.) во властных сферах. Не для народа, а для русских дворян нерусская фракция российского дворянства была нетерпима. Отождествлял ли при этом простой народ русских дворян и русскую интеллигенцию с иноплеменными? На этот вопрос никакого фундированного ответа наши авторы не дают, а лишь делятся своии домыслами и предположениями, а это – плохой аргумент. Возможно, иногда местами такое и происходило, но наверняка не всегда и не везде. Даже в ходе Гражданской войны красная пропаганда попрекала барона Врангеля социальным, но не национальным происхождением!
Во-вторых, разрыв между простонародьем и образованным классом есть вещь вечная, повсеместная и, как сказал бы сам Соловей, экзистенциальная во все времена и у разных народов. Этот разрыв никуда не делся в России и при Советской власти, даже в ее поздний период, а сегодня вновь усугубился и достиг критических величин. При этом именно русская высокая культура, которую официоз всегда преподносил миру как собственно русскую национальную культуру, оказалась настолько неприемлема и враждебна для широких русских масс, что они всегда стойко предпочитали и предпочитают ей не только народно-самодеятельную или полублатную (в диапазоне от частушек и Владимира Высоцкого до Аркадия Северного и Михаила Круга), или весьма специфичную молодежную субкультуру, но даже американскую попсу, негритянский джаз или каких-нибудь мерзейших битлов. Русский певец в подземном переходе в надежде на подаяние скорее станет гнусить «Йестеди» («Yesterday»), чем споет арию из Глинки или Чайковского или романс Гурилева, Даргомыжского или хотя бы Фомина. Не «Белинского и Гоголя», а «Блюхера и милорда глупого», не репродукцию Венцианова или Поленова, а лубок веками как нес, так и несет русский простолюдин с базара. А феномен Владимира Сорокина, выстроившего свой пиар на перверсировании русской классики, народную ненависть к которой он успешно эксплуатирует, заслуживает характеристики «великий истинно пролетарский писатель» (в отличие от Горького, писавшего для интеллигенции). Я и немногие мои коллеги ощущаем этот разрыв всю свою жизнь, но… свидетельствую: за это не убивают. И даже особой трагедии из этого не делают. А если убивают, то не за это.
Тезис о культурном разрыве как причине якобы «этнического» отчуждения верхов и низов русского общества зиждится у Соловья и Сергеева на трех китах:
– франкофония, галломания, англомания, германофилия и т. п. дворянства, воздвигавшие якобы непроходимый барьер с крестьянством;
– параллельно тому – сознательный отрыв дворянства от русской народной культуры, русского быта и русского языка (Сергеев сюда приписывает еще и отрыв от религии);
– целенаправленная культурная дискриминация крестьянства, задвигание его в нишу безнадежной архаики.
Все это, по Соловью и Сергееву, вело к роковым последствиям:
«Глубинную психологическую подоплеку смуты начала XX в. очень точно уловили евразийцы, назвавшие ее „подсознательным мятежом русских масс против доминирования европеизированного верхнего класса ренегатов“93. Отсюда не так уж далеко до оценки революции как национально-освободительного восстания русского народа»94.
На самом деле к этой оценке ведут нас только сами авторы. Ведь перед нами типичная ложная посылка и, соответственно, ложный вывод. Невозможно понять и принять, как это класс русского дворянства, который был, с одной стороны, главным заказчиком, а с другой – главным создателем и апробатором классической русской культуры, той самой культуры, которой мы заслуженно гордимся, которую предъявляем всему миру в качестве национальной визитной карточки и по которой все нас идентифицируют как русских, – как этот класс оказался вдруг записан евразийцами, а вслед за ними Соловьем и Сергеевым в «класс ренегатов»?! Уму непостижимый выверт мысли! Уберите из истории русской литературы, музыки и изобразительного искусства этот класс – чем гордиться будем?
Я уж не говорю о необозримом скорбном и величественном мартирологе «класса ренегатов», сложивших за тысячу лет свои головы за Отечество и свой народ, за освобождение от инородческого ига, за отражение нашествий иноплеменных… Любой, даже захудалый дворянский русский род изобилует именами павших на поле брани за Русь. Уж как ни мерзок нам образ Малюты Скуратова – а ведь и тот погиб от стрелы в бою на Ливонской войне. Если в рекруты попадала мизерная часть крестьянства (всего один рекрут от ста дворов), то рискнуть своей жизнью на войне должен был быть готов каждый дворянин. Не крестьянство, вопреки расхожему мнению, а именно дворянство было «пушечным мясом» русской нации.
Наконец, непонятно, что же это за национально-освободительная борьба такая, в результате победы которой русский народ в качестве приза получил неслыханную и именно национальную кабалу! Именно уничтожение его природной биосоциальной элиты («класса ренегатов», по Трубецкому) и превратило русских, если угодно, в бесправный этнокласс-донор, каковым он до этого не был. То есть, логика истории строго обратна логике Соловья и Сергеева.
Перед нами явный логический кульбит дворянофобов. Для того, чтобы в этом убедиться окончательно и детально, пройдемся критическим взором по основным аргументам коллег. По всем «трем китам».
Но прежде – небольшая историческая зарисовочка.
Все познается в сравнении. Если хоть на мгновение заглянуть в русский XVII век, тезис Соловья и Сергеева о том, что культурные барьеры между крестьянами и дворянами сознательно возводились господствующим классом как высшая санкция эксплуатации, не выдержит никакой критики, разлетится в прах. Критерии прекрасного в этом веке еще были едины у верхов и низов русского общества, разве что качество артефактов было у художников, допустим, Оружейной палаты повыше, чем у деревенских богомазов.
Но дело не столько в общих критериях в искусстве, сколько в том, что эта культурная общность отнюдь не препятствовала доминации верхов и эксплуатации низов. Сохранилось, к примеру, сыскное дело 1669 года «про князь Микифора да про сына ево про князь Ивана Белосельских». Сыщик, стольник Михаил Еропкин, установил, что эти два князя четыре года безвинно держали в своем поместье в сельце Якушеве солдата Ивана Перелета «скована на двух чепях, в железах, руки скованы же назад, и давали есть по двенадцать сухарей в сутки да ведро в месяц воды и пытали и огнем жгли четырежи и иных людей своих и крестьян мучили и до смерти поморили. И за то их мучительство велено их посадить в тюрьму и учинить им то же, что они чинили над солдатом, а давать им в сутки по сорок сухарей»95. Можно поручиться, что в культурном отношении никаких отличий у князей Белосельских и мучимых ими людей не было и в помине. То была эпоха, когда самый простой человек мог в годы Смуты выдать себя за царского сына и все этому верили именно потому, что радикальное социокультурное расслоение общества еще не произошло. Между тем, так называемая «Черная книга» («Книга переписная Приказу тайных дел всяким делам, черная», то есть черновая сводная опись дел, составленная подьячими этого приказа) рисует и другие выразительные картины жуткого произвола и самоуправства помещиков. И хотя это считалось противозаконным и при случае преследовалось правительством, но резонансными такие дела, в отличие от дела той же Салтычихи, в те времена отнюдь не были, ибо не считались чем-то из ряда вон выходящим.
Как видим, полное отсутствие культурных барьеров между классами нисколько не сдерживало самых крайних форм отношений господства-подчинения в допетровской Руси. Думать иначе, искать в культурных барьерах некий катализатор и/или санкцию эксплуатации – довольно наивно. Скорее наоборот, европейское просвещение дворянства влекло за собой смягчение нравов, формировало общественное порицание классовой бесчеловечности, порождало сомнения в правомерности угнетения человека человеком, создавало, образно говоря, радищевых и фонвизиных, новиковых и декабристов, герценов и огаревых, а вовсе не белосельских и салтычих. Именно по громкому делу Салтычихи это видно довольно хорошо.
Вот что можно сказать в отношении самой идеи наших авторов как таковой.
Теперь, поставив здесь большую смысловую точку, можно развлечься приятными историческими деталями и поговорить о пресловутых культурных барьерах. Так ли были они высоки и непроходимы, так ли разрушали единство нации и подрывали нациестроительство, как это представляют себе и нам Соловей и Сергеев?
83
Речь идет о: Сергей Сергеев. Дворянство как идеолог и могильщик русского нациостроительства. – Вопросы национализма, №1, 2010.
84
Из возражений Сергеева на мою критику. Были обнародованы на сайте АПН в 2010 г.
85
Сергеев С. М. Пришествие нации?… – C. 150.
86
Там же, с. 200. Формулировка о войне нации и народа настолько невразумительна, что я не в силах ее комментировать, оставляя на совести автора. Единственная трактовка напрашивается: война еврейского народа против русской нации, но это явно не по Сергееву.
87
Он, например, считает, что «национальное единство невозможно без социальной и юридической однородности нации» (Сергей Сергеев. Восстановление свободы… – С. 104): мнение, ни на чем, увы, не основанное. На этом ложном понимании нации выстроена, однако, вся концепция книги Сергеева «Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия» (М., Центрполиграф, 2018).
88
Сергей Сергеев. Восстановление свободы. Демократический национализм декабристов. – Вопросы национализма. №2. 2010. – С. 79.
89
Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины. – М., Молодая гвардия, 2008. Автор – кандидат исторических наук (окончила Московский историко-архивный институт и аспирантуру Института российской истории РАН).
90
Этот парадокс хорошо иллюстрируют две цитаты из Пушкина: одна – из его заметок 1822 года по русской литературе XVIII века («развратная государыня развратила свое государство») другая из стихотворного наброска незадолго до смерти («Россия, бедная держава, / Твоя раздавленная слава / С Екатериной умерла!»). Для полной переоценки значения этой удивительной женщины гению не понадобилось и пятнадцати лет.
91
Соловей В. Д. Кровь и почва… – С. 127—128.
92
Соловей В. Д. Кровь и почва… – С. 125.
93
Соловей цитирует высказывание лингвиста Н. С. Трубецкого, внесшего немало путаницы в этнологию.
94
Соловей В. Д. Русская история: новое прочтение… – С. 128—129.
95
Пересветов Р. Т. По следам находок и утрат. – М., Советская Россия, 1961. – С. 124.