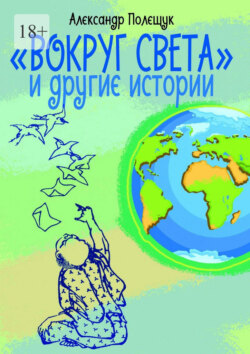Читать книгу «Вокруг света» и другие истории - Александр Полещук - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ФАКУЛЬТЕТ ПРОСВЕЩЁННЫХ ДИЛЕТАНТОВ
Четыре месяца экзотики
ОглавлениеНе помню, почему возникло намерение поехать на следующую практику на Сахалин. Во всяком случае, не Чехов меня подвигнул, не его очерковая книга с описаниями каторги и каторжан. Скорее всего, захотелось повидать далёкие края и обязательно побывать с рыбаками на сайровой путине у острова Шикотан. Рассказывали, что ночью на траулере включают прожектор, и на его свет из океанской глуби поднимаются переливающиеся серебром рыбные косяки.
Редакция областной газеты «Советский Сахалин» согласилась принять на практику четверых студентов нашего курса – Юрия Тундыкова, Валентину Колотушу, меня и Галину Первушину. Командировочные удостоверения нам выписали на 91 день – с 1 апреля по 30 июня 1964 года, выдали стипендию и проездные, и мощный красавец Ту-104 помчал нас через всю страну в Хабаровск (прямого сообщения с Сахалином тогда ещё не было).
На территорию области можно было попасть только по справке из милиции, удостоверяющей благонадёжность визитёра и обоснованность его въезда в пограничную зону. Это добавляло таинственности Южно-Сахалинску, окутанному в моём воображении романтическим флёром наподобие гриновского Зурбагана. Действительность оказалась совершенно иной. Неказистый аэропорт сахалинской столицы выглядел очень провинциально, не произвёл ожидаемого впечатления и город: одинаковые прямоугольники старой деревянной застройки, разбавленные немногочисленными каменными зданиями областных учреждений и жилых домов. Сахалинцы острили: «Город застраивается по мере выгорания».
Редактор Василий Ильич Парамошкин отнёсся к нам по-отечески: выслушал пожелания, назначил зарплату, распорядился поселить в гостинице за счёт редакции.
Моя практика началась в идеологическом отделе, а завершилась в промышленном. Насколько могу судить по газетным вырезкам и представленному в деканат отчёту, писал я меньше, чем в Кургане, но качество материалов подросло, тематика расширилась. В «Дневнике производственной практики» названы статьи о работе городской библиотеки, о воспитании «трудных подростков», репортаж из зала суда, очерк об экскаваторщике, репортаж из леспромхоза, материалы о строительстве ГРЭС и другие.
Втроём – Тундыков, Колотуша и я – провели 75 интервью с работниками рыбоконсервного комбината, формализовали ответы и совместно написали статью под заголовком «Твоё общественное лицо». То была робкая и не очень умелая попытка применить в журналистской работе социологический опрос.
Разумеется, я старался использовать любую возможность, чтобы отправиться куда-нибудь в командировку. К сожалению, моё романтичное желание пойти с рыбаками на Шикотан редактор не счёл достаточным мотивом для обращения в компетентные органы: ведь для пребывания на Курилах мне, не имевшему сахалинской прописки, требовалось дополнительное разрешение. Гораздо проще оказалось ездить по Сахалину на дизель-поезде, что я и делал. Побывал в Поронайске, Холмске, Красногорске, Корсакове, Вахрушеве. Впечатлений получил массу.
Сорокалетняя оккупация японцами Южного Сахалина окончилась летом 1945 года. Императорские войска не оказали серьёзного сопротивления Красной армии, благодаря чему на острове сохранилась развитая экономическая инфраструктура: бумажные фабрики, рыбозаводы, порты, железные дороги с тоннелями, мостами, станциями. Японская колея уже, чем наша стандартная, и в то же время шире нашей узкоколейки, поэтому по ней ходили японские вагончики, прицепленные к дизельной автомотрисе. Для ночных переездов использовались спальные вагоны, рассчитанные японцами под свои габариты. Отправившись в командировку в Поронайск, я всю ночь пролежал, скрючившись, на верхней полке, а утром не смог разминуться в коридоре с мужчиной моего роста и комплекции, так что пришлось нырять в соседнее купе.
Японцы, владевшие также до войны Корейским полуостровом, завозили оттуда тысячи человек на Сахалин для работы в угольных шахтах, на лесоповале, бумажных фабриках и рыбных заводах. После войны одни корейцы натурализовались, получили советское гражданство, даже стали депутатами и передовиками производства, другие переселились в КНДР, третьи же предпочли остаться людьми без гражданства (апатридами) в ожидании лучших времён. Однажды я увидел на почтамте, как стоявший передо мной в очереди кореец подал в окошко книжечку с надписью: «Временный вид на жительство». Для нас, живущих в уральской глубинке, корейцы были настоящей экзотикой. Мы часто наведывались на городской рынок, где кореянки торговали острой капустой кимчхи и мясными, сваренными на пару пирожочками пянсё.
В сахалинских магазинах я накупил множество книг, так что часть их даже пришлось отправить посылкой в Петухово. Среди моих приобретений был сборник Василия Пескова «Шаги по росе». Я так надоел всем своими восторгами по поводу очерков и лирических зарисовок журналиста «Комсомольской правды», что выпускница нашего факультета Галина Обозненко, корреспондент областного радио, предложила мне подготовить литературно-музыкальную композицию по книге. Я с удовольствием принялся за работу. С гордостью слушал свой текст и обширные цитаты из Пескова в актёрском исполнении с музыкальным сопровождением. Радиопередача имела двойной результат: на гонорар я устроил пир с сухим вином и крабами, а Галя решила избрать творчество Василия Пескова темой будущей дипломной работы.