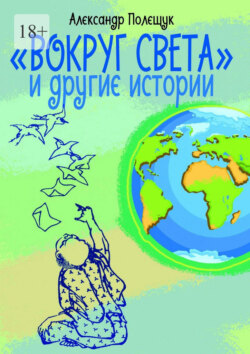Читать книгу «Вокруг света» и другие истории - Александр Полещук - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ИСКУШЕНИЕ СОЦИОЛОГИЕЙ
Будни аспиранта
ОглавлениеПервый аспирантский год отчасти напомнил студенческие будни. Мы практически ежедневно ездили на занятия в университет: слушали лекции, готовились к кандидатским экзаменам. На еженедельных семинарах Евгений Павлович знакомил нас с азами социологии массовой коммуникации*, в основном, по американским источникам. Газетная обыдёнщина обретала в наших глазах невиданную значительность: оказалось, что она является элементом безостановочно функционирующей системы создания, распространения и потребления массовой информации. Мало того, социология не только описывала эту систему не всегда понятным языком, но и претендовала на познание её непреложных закономерностей и выявление скрытых возможностей.
Перечень печатных работ на русском языке по теоретическим вопросам социологии массовой коммуникации ограничивался в те годы скромной книжкой польского учёного Щепаньского да несколькими статьями в различных «Вестниках», «Бюллетенях» и ротапринтных сборниках. Найти их было бы проблематично, если бы не ориентировки Евгения Павловича, следившего за появлением новинок. Замечу, что Прохоров научил нас правильно систематизировать и хранить информацию. Я до сих пор веду картотеку источников на библиографических карточках, а в библиотеке, забывая о ноутбуке, делаю выписки из читаемой книги на половинках писчего листа, которые затем пронумеровываю и формирую досье по нужной теме. Пользоваться ими оказалось удобнее, чем искать через год в тёмных компьютерных недрах забытую цитату.
Я с энтузиазмом погрузился в научную стихию. Подсознательно оправдывая свою отлучку, подробно рассказывал в письмах жене о своей учёбе. Особенно красочными были описания занятий по английскому языку. Школьные и университетские «пятёрки» ввели меня в заблуждение относительно уровня моих познаний в нём. Поэтому требование нашей преподавательницы Александры Георгиевны Елисеевой, долгое время работавшей переводчицей в ООН, избавиться от русско-английского суррогата и погрузиться в исконный English я воспринял как-то не в серьёз. А зря: перестроиться оказалось нелегко, я то и дело попадал впросак. В таких случаях милая Александра Георгиевна прибегала к эмоциональному натиску (разумеется, по-английски): «Саша, это позор, ведь вы – отец двух детей» или «Когда Сашин сын вырастет, ему будет стыдно за английский язык отца». «Тройка» по кандидатскому экзамену в мае 1969 года стала мне заслуженным наказанием за самоуверенность.
Изучение английского языка, которое началось с пятого класса, наверное, и не могло увенчаться значительными достижениями, поскольку в нём отсутствовал практический смысл. В советские времена не было возможности читать английские книги и разговаривать с носителями языка. На анкетный вопрос о владении иностранным языком приходилось отвечать изобретённой каким-то умником формулой «Владею со словарём». Когда же языки перешли у нас в свободное обращение, садиться за парту стало поздно. Я могу объясниться по-английски на бытовом уровне, а вот беседовать на сложную тему или брать интервью никогда не решусь. Но в 2012—2016 годах мне понадобилось читать на английском источники по истории XX века, и вдруг я стал узнавать усвоенные во время аспирантских занятий слова и фразеологические конструкции из политической лексики. Так что усилия А. Г. Елисеевой, стыдившей «отца двух сыновей», даром не пропали.
А вот на семинарах доктора философских наук Людмилы Пантелеевны Буевой я чувствовал себя уверенно, и «отлично» на кандидатском экзамене по философии стало вполне заслуженной оценкой. Для реферата я избрал тему «Печать и ценностные ориентации личности». Ключевое слово здесь – личность, предмет загадочный, хотя и кажущийся знакомым. («Никак не припомню, где это я встречал твою личность?»). Монография Буевой «Социальная среда и сознание личности» приоткрыла передо мной вселенную человека, которая мало того, что чрезвычайно сложна сама по себе, но ещё и пребывает в непрестанном изменении и развитии, испытывая воздействие внешних и внутренних факторов. Реферат получился, судя по оценке, вполне приличный, и я решил дальше разрабатывать тему воздействия информации на сознание личности, но в более узком, прикладном ключе.
Меня поселили в корпусе «Д» высотки МГУ на Ленгорах, где обитали студенты и аспиранты журфака. Замысел создателей этого выдающегося комплекса, построенного в 50-е годы, был великолепен: обеспечить для студентов и аспирантов такие бытовые условия, чтобы ничто не отвлекало их от упорного штурма сияющих вершин науки. Здесь были свои библиотеки, киноконцертный и спортивный залы, магазин «Гастроном», столовые, почтовое отделение с международной и междугородной телефонной связью, на каждом этаже жилого корпуса – кухня с газовыми плитами и мусоропровод. На мою аспирантскую стипендию (100 рублей) здесь можно было скромно жить, неделями не покидая кампус.
В двухкомнатном блоке с удобствами аспиранту полагалась отдельная комната; в соседях у меня оказалась супружеская пара – улыбчивый Кланс из африканского государства Гана, сибирячка Валя и их маленький сын Гевара. Кланс приехал учиться на факультет, когда в Гане правил большой друг Советского Союза президент Кваме Нкрума, но пока студент изучал русский язык и прочие предметы, на родине случился военный переворот, и возвращаться домой стало опасно. Кланс поступил в аспирантуру, женился и стал обрастать бытом: жарил мясо с овощами на большой латунной сковороде, гулял с сыном, стирал подгузники и понемногу выпивал тайком от жены, что приводило к обычным русским скандалам.
На следующий год меня почему-то переселили в другой блок, к египтянину Рахману. Он тоже был в некотором роде жертвой обстоятельств. Постигал в МГУ экономические науки в период правления другого нашего большого друга, Героя Советского Союза Гамаля Абделя Насера, но после смерти последнего в Египте установился не устраивавший Рахмана режим, и он превратился из вечного студента в вечного аспиранта. Это был идеальный сосед: целыми днями он тихо сидел в своей комнате или неслышно куда-то надолго ускользал. Два-три раза в месяц к нему приходила одна и та же женщина, и тогда Рахман готовил на плитке какое-то арабское бобовое блюдо, распространявшее запах незнакомых пряностей. Тишину, однако, по-прежнему ничто не нарушало.
В аспирантуре со мной случилось то, что случалось в ту пору со многими: в мой круг чтения вторглась потаённая литература. Зарубежные издания запрещённых в СССР книг, попадавшие в МГУ, скорее всего, через иностранных студентов и аспирантов, давались доверенным людям на сутки. Я потерял свою идеологическую девственность, тайно изменив советской литературе сразу с двумя Нобелевскими лауреатами – Борисом Пастернаком и Александром Солженицыным. Романы именовались «Доктор Живаго» и «В круге первом». В памяти остались отдельные эпизоды и общее впечатление чего-то будоражащего, что, конечно, объясняется естественным волнением. В обычном темпе прочитал их позднее, уже в отечественном издании.
Запрещённое всегда порождает завышенные ожидания, которые не всегда оправдываются, когда проникаешь сквозь запрет. Можно было предполагать, что в этих книгах содержатся какие-то красочные подробности страшных беззаконий и преступлений, чуть ли не злая карикатура на советский строй, поэтому их не печатали, дабы не потрафить клеветникам России. На самом деле романы как романы, каждый автор написал их так, как умеет, только содержание необычно для советской литературы. Хотя… Разве не напрашивается перекличка судеб Юрия Живаго и Григория Мелехова, оказавшихся в революционном водовороте?
* Здесь и далее я не придерживаюсь строгой научной терминологии, полагая, что из контекста ясно, что имеет в виду автор. Употребление многих социологических терминов в описываемое мной время не приветствовалось или строго регламентировалось. Так, «средства массовой информации» следовало употреблять с добавкой «и пропаганды». Правда, просматривая российские телепередачи и газеты, я давно пришёл к выводу, что такое уточнение и сегодня было бы не лишним.