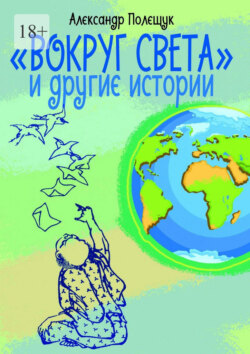Читать книгу «Вокруг света» и другие истории - Александр Полещук - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ИСКУШЕНИЕ СОЦИОЛОГИЕЙ
Профессор Грушин
и профессор Левада
ОглавлениеВо второй аспирантский год, сдав два кандидатских экзамена, мы гораздо реже покидали обжитую зону «Д». Но утомительная езда в обычно переполненном автобусе №111 вознаграждалась настоящим интеллектуальным пиршеством на факультете.
Профессор Борис Андреевич Грушин, заведующий отделом в ИКСИ – Институте конкретных социальных исследований Академии наук СССР, а в прошлом руководитель «Института общественного мнения „Комсомольской правды“», вёл для нас, аспирантов-социологов, семинарские занятия по методологии изучения массового сознания и общественного мнения, а также по методике прикладного социологического исследования. В то время эмпирические исследования СМИ выглядели весьма скромно на фоне общего, тоже небогатого, социологического пейзажа. Так, под руководством Грушина были проанализированы содержание и состав авторов читательских писем в редакцию «Комсомольской правды», а в рамках генерального проекта «Общественное мнение» под его же руководством изучалась читательская аудитория. Отдельные стороны деятельности СМИ затрагивались и в других процедурах этого крупного проекта, осуществлённого в 1967—1974 годах на базе города Таганрога. Кое-какие результаты анкетных опросов получили социологи Ленинграда, Новосибирска, Эстонии. Вот, пожалуй, и все достижения.
Грушин, выпускник философского факультета МГУ, был блестящим логиком и методологом. Азартный, сыпавший неожиданными сравнениями и литературными примерами, он буквально завораживал стройным, почти математическим развёртыванием темы, когда каждый выдвинутый тезис, каждое предложенное определение неколебимо точны и неразрывно спаяны с предыдущим и последующим, и невозможно оторвать руку от конспекта из опасения потерять нить рассуждений, упустить нечто важное. Удивительно, что ему удавалось возводить столь прочные постройки из эфемерных сущностей – таких как мнения о мире и мир мнений (именно так назвал Грушин свою социологическую монографию).
Юрий Александрович Левада, заведующий сектором теории и методологии ИКСИ, по приглашению декана Засурского (возможно, с подачи Прохорова) читал на факультете журналистики курс лекций по социологии. Помимо студентов, на лекциях всегда присутствовал другой народ: аспиранты, сотрудники университета, начинающие социологи.
На взгляд из дня сегодняшнего, когда основополагающие работы западных и отечественных социологов и социальных психологов давно напечатаны, заслугой Ю. А. Левады можно считать уже то, что он проанализировал недоступные тогда западные источники и умело скомпоновал из них и из собственных размышлений целостный курс. Мне трудно судить о степени новизны этого курса. Сам Юрий Александрович позднее пояснял, что его лекции – «всего лишь опыт изложения вводных, элементарных категорий социологического знания. Здесь не было никаких претензий на „открытия“, оригинальность и построение целостной и систематической картины этого знания». Но, даже приняв к сведению столь скромную самооценку, надо признать, что в его лекциях социология впервые в СССР обрела чёткие очертания самостоятельной научной дисциплины.
Каждая лекция Левады была настоящей ездой в незнаемое. Оказалось, что нельзя адекватно понять и описать функционирование общества, его структурных образований и отдельной личности, используя лишь философские и исторические науки, что необходима научная дисциплина среднего уровня, которая объясняет и прогнозирует социальные процессы, явления, факты, используя специальный инструментарий прикладных исследований. Из лекций следовало, что закономерности устройства и функционирования общественного механизма при социализме и капитализме в значительной мере схожи, что нет социологии «буржуазной» и «марксистской», а есть одна наука, подобная естественнонаучной дисциплине. Тематика курса ясно на это указывала: общество как система; социальная структура и социальные группы; малые группы; социальная структура личности; социальные роли личности; социализация личности, процесс урбанизации в социальной системе и так далее.
Несколько лекций Левада посвятил массовой коммуникации. Конспект у меня не сохранился, зато сохранился изданный на ротапринте двухтомник Левады «Лекции по социологии» в зелёных бумажных обложках. В отдельной главе описаны три типа коммуникации – личная, специальная и массовая. Личная (её ещё называют межличностной) – это непосредственное общение индивидов друг с другом, без всяких технических средств. Специальная коммуникация – это распространение знаний для профессионалов с помощью книг, журналов, лекций и т. д. или в процессе обучения человека специальности. Что касается массовой коммуникации, то она транслирует массовую информацию, интересную всем, то есть предназначена для профанов. В таком неожиданном определении нет ничего обидного. Учёный-физик не станет искать сведения об исследованиях своих зарубежных коллег в газете, а возьмёт специальный журнал. Но для ориентации в других областях жизни общества, о которых он знает на уровне «кое-что обо всём», ему нужны СМИ. Так что в данном случае физик становится тем самым профаном, о котором говорил наш лектор.
Сегодняшняя информационная картина общества, опутанного мелкоячеистыми сетями коммуникации, существенно обогатилась. Естественно, в прежнюю классификацию не вписывается Интернет – феномен столь всеохватный, что ему присвоили прописную букву. Ведь по разнообразию функций он представляет собой одновременно личностную, специальную и массовую коммуникацию, так что правомерно говорить о четвёртой – сетевой коммуникации, сочетающей признаки всех трёх «классических» видов. Причём эти виды активно взаимодействуют. Замечено, что телефонный разговор двух подруг часто сводится к подробному обсуждению вчерашней телепередачи.
Очевидно, что в современной сфере коммуникации происходит перераспределение потоков. Интернет стал более предпочтительным источником информации, особенно в области гуманитарных и общественно-политических знаний. Профаны хотят постигать мир без особых интеллектуальных усилий, и это им удаётся. Щёлкнул мышью – и к твоим услугам сотни файлов. И вот тебе уже не обязательно хранить молчанье в важном споре; наоборот – ты можешь судить о предмете спора с учёным видом знатока. Наше сознание, постоянно облучаемое стандартной информацией, постепенно окостеневает, отторгает то новое, что не укладывается в привычную схему.
Левада писал, что массовая коммуникация распространяет в виде информации знания, ценности и нормы. Сейчас к этому перечню пора добавить фейки – выдуманные, непроверенные или преднамеренно сфальсифицированные сообщения. «Знания навыворот» и откровенное враньё давно поселились в СМИ. Быть может, таково одно из проявлений их нерегулируемой и неограниченной (или ограниченной лишь превратно толкуемыми юридическими нормами) свободы, под крылом которой вольготно сожительствуют правда и ложь, наука и мракобесие?
Осенью 1969 года грянуло «дело Левады». К тому времени Юрий Александрович прочитал свой курс уже трём поколениям студентов, однако скандал разразился только после выхода из печати «Лекций по социологии». Никаким подпольным диссидентством в «деле» не пахло: «Лекции» были изданы тысячным тиражом под эгидой трёх академических учреждений.
Как выяснилось позднее, в ЦК партии поступило письмо некоего ревнителя чистоты марксистско-ленинского учения, обратившего внимание на ревизионистское и антипартийное сочинение профессора Левады, сотрудника академического института и члена КПСС. И развернулись боевые действия. «Лекции» обсуждались и осуждались в Институте конкретных социальных исследований и Академии общественных наук. Черёмушкинский райком КПСС вынес коммунисту Ю. А. Леваде (к тому же он являлся секретарём партийного бюро института) строгий выговор.
Не минула чаша сия и наш факультет. Показательно, что пресловутый курс лекций рассматривался не на заседании учёного совета, а на факультетском партийном собрании. Иными словами, научному сочинению был придан характер политического выступления. Подобное случалось в отечественной истории сравнительно недавно, и среди участников нашего собрания были те, кто знал об этом не из книжек. Тот факт, что о «деле Левады» докладывал сам секретарь партийного комитета университета В. Н. Ягодкин, свидетельствовал о серьёзности ситуации. Кругом поёживались от его жёсткого, властного тона, от ортодоксальных обвинительных формулировок. Все ожидали атаку на социологическую группу и её руководителя. И она последовала.
Особенно резко прозвучало выступление доцента С. И. Жукова, обвинившего Прохорова в отступничестве от марксистско-ленинского учения о печати. Жуков был наиболее последовательным выразителем взглядов группы преподавателей, получившей прозвище «чёрные полковники» (по аналогии с бытовавшим в советской печати наименованием лидеров военной хунты, захватившей власть в Греции). Многие из наших «полковников» в 40 – 50-х годах действительно служили на руководящих должностях в военных газетах и армейских политотделах и застряли в контексте того времени.
Как водится, в ходе собрания оформились две точки зрения. Одни ораторы трактовали приглашение Левады с его лекциями и присвоение ему профессорского звания как политическую ошибку и попутно выявляли единомышленников и поклонников опального профессора в стенах факультета. Другие (в том числе Засурский и Прохоров) пытались оценить лекции с точки зрения современной науки и показать, что они не свободны от отдельных ошибочных и двусмысленных выводов, но не нацелены на свержение исторического материализма. Та и другая сторона оперировала ленинскими цитатами, причём Прохоров был очень убедителен в трактовке партийных принципов печати. Он считал недопустимым догматизм, ратовал за творческое осмысление практики современной печати и развитие теории журналистики в русле марксизма-ленинизма. Конечно, в его доводах содержался элемент лукавства, очевидный всем, но таковы были правила игры.
Большинство внимало дискуссии молча, прикидывая, чем всё это обернётся. В заранее заготовленном постановлении акценты, разумеется, были расставлены в духе доклада секретаря парткома. Проголосовали за него, кажется, единогласно, во всяком случае, не нашлось ораторов, предлагавших альтернативный вариант. Но никаких серьёзных оргвыводов в отношении сотрудников факультета не последовало. Группа Прохорова продолжила работу.
Интересно, что в начале лихих 90-х критики противоположного окраса попрекали Прохорова «компромиссами» и «уступками коммунистическим ортодоксам». Но нельзя забывать, что все тогда жили в иной реальности, и «бунт» мог запросто привести к искоренению социологии на журфаке. Возможно, во избежание конъюнктурных трактовок своего главного труда, «Введения в теорию журналистики», Евгений Павлович обошёлся в нём вообще без цитат и поклонов отечественным и западным авторитетам и просто изложил собственное понимание предмета.
Итог «дела Левады» подвёл специальной запиской в ЦК КПСС первый секретарь МГК партии В. В. Гришин. В ней сообщалось следующее: «Лекции не базируются на основополагающей теории и методологии марксистско-ленинской социологии – историческом и диалектическом материализме. В них отсутствуют классовый, партийный подходы к раскрытию явлений социальной действительности, не освещается роль классов и классовой борьбы как решающей силы развития общества, не нашли должного отражения существенные аспекты идеологической борьбы, отсутствует критика буржуазных социологических теорий. Материал курса изложен абстрактно, в отрыве от практики коммунистического строительства. Имеются незрелые, ошибочные формулировки, дающие повод для политических спекуляций. Тов. Левада Ю. А. освобождён от работы по совместительству в Московском государственном университете и лишён звания профессора».
Похоже, что именно «дело Левады» способствовало стремительному карьерному росту Ягодкина. В 1971 году он был избран секретарём Московского горкома КПСС по идеологическим вопросам, а потом и кандидатом в члены ЦК. Однако неуёмная страсть к «наведению порядка» в научных и творческих организациях окончилась через несколько лет его отставкой с высоких партийных постов.
А фамилия опального профессора, лишённого звания, но не знания, спустя много лет стала названием негосударственного института изучения общественного мнения – «Левада-центра».