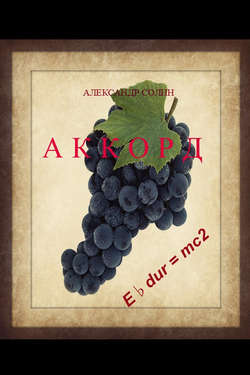Читать книгу Аккорд - Александр Солин - Страница 10
Люси
1
ОглавлениеЯ сижу в компании с помятой памятью под голубым тентом полупустого, почти загородного кафе. Одинокий пилигрим любви, я громкими призывами тревожу ее развалины, приветствуя и привечая все, что откликается на имя Люси.
Стригущий лишай мегаполиса уже захватил здешние места, превратив живую природу в полуживую. День в полном разгаре, и солнце словно осатанело. Слева от меня искрится ртутными оспинами озеро. Неряшливые берега его усеяны ленивыми телами окрестных обитателей. Вместе с жирным запахом обугленного мяса оттуда доносятся пронзительные детские голоса, женское повизгивание, басовитая мужская перебранка, приглушенное плюханье, музыкальные и прочие улики человеческой незатейливости.
Все же что за удивительная штука наша память! Основание и каркас нашей личности, она многолика и нефотогенична, капризна и метафорична. Она не только хранит для нас копию мира, но и сама подобна тому, что мы видим, слышим и ощущаем. Вот сейчас она похожа на озеро с его мутной глубиной, где плавает черт знает что, на бездонное небо с плывущими по нему, словно обрывки воспоминаний облаками, на хаотичное роение бежево-смуглой человеческой наготы, накрывшей буро-зеленые берега и на эту кружку светлого пива передо мной, на поверхности которого тает пена текущего момента. Откликаясь на все, она, как маска обладает высшей степенью безликости и в соответствии со своими вкусами и пристрастиями редактирует все, что мы в нее загружаем. Она как взволнованное отражение: верить ей так же неосмотрительно, как и не верить. Она самодержавна и независима, упряма и непредсказуема, глумлива и безнравственна, нездорова и разрушительна. Не память, а громыхающий бродячий оркестр! Во всяком случае, именно такой представляется мне моя память, когда речь заходит о третьей ноте моего аккорда.
Итак, вот она: в миру – Людмила, в женском монастыре моего сердца – Люси. Красивая одноклассница, чье счастливое сочетание базовых женских параметров делало ее уверенной и независимой. Мина замедленного действия, о которой я вспоминаю с тем же скверным и тягостным чувством, с каким свежеконтуженный сапер восстанавливает свой неверный шаг. Падкий на поэтические вольности, я мог бы сказать, что моя любовь к Люси подобна пробежавшей через мои дни трещине, если бы много лет назад то же самое и по тому же поводу не сказал великий лолитовед. Добавлю для разнообразия, что убегая от объекта сравнения, я так и не смог убежать от его сравнительной части, которая, в конце концов, догнала меня и расколола кривое зеркало моей первой жизни.
Порывистая, нежная, равнодушная, влюбленная, мятежная, покорная, умная, злая, бесцеремонная, смущенная – это та Люси, которую я хотел видеть. Вместо нее – практичное существо с ангельской оболочкой и деловой изнанкой. Сладкоголосая сирена с глазами, как две безмятежные лагуны с пульсирующей черной приманкой на дне. Ее влияние на меня тем более необъяснимо, если иметь в виду, что наши отношения, возникнув из ничего, в ничто, в конце концов, и обратились.
Она появилась у нас в девятом классе, и я долго ее не замечал. Чуждая эксцентричным выходкам и повизгивающей экзальтации простоватых подруг, она вела себя разумно и сдержанно, смотрела на мир практично и с дальним прицелом – словом, была мне неинтересна. А между тем ей незачем было искать моего расположения: как я уже сказал, была она девушкой красивой, здравомыслящей и целеустремленной – из тех, что сначала думают о высшем образовании, а затем обо всем остальном.
Мой грустный любовный опыт превратил меня в насмешливого и злого нигилиста, сильно осложнив мое общение с людьми простодушными и добросердечными. Отчасти эта демисезонная злость и помогла мне попасть в институт, в то время как Люси не поступила на юрфак МГУ. Большинство моих одноклассников пошли работать, чтобы через год уйти в армию, а вернувшись, жениться и постепенно раствориться в хаосе жизни. После расставания с Натали я был мрачен и нелюдим и не принимал участия в их возбужденных, почти взрослых посиделках, которые они, связанные пока еще крепкими узами школьного братства (нечто среднее между дружбой и родством), завели привычку устраивать по выходным, а то и на неделе.
В октябре я обнаружил у себя первые признаки выздоровления. Поскольку институтские знакомства только-только завязывались, то под приветственные возгласы примкнул к посиделкам и я. Да так удачно, что пожалел, почему не сделал этого раньше. Прилежный спортсмен, я довольствовался рюмкой-другой портвейна, после чего предавался улыбчивому созерцанию честн0й компании. Люси не пропускала ни одного собрания и была там на главных ролях. Доморощенный интеллектуал и анархист, каким был я, и предводительница девчонок, какой была красавица Люси, не могли не зацепиться. Как она потом призналась, к моей персоне ее кроме моих общепризнанных достоинств привлекли нескромные слухи и моя лаконичная, язвительная сдержанность. Со своей стороны я склонен думать, что мое задиристое поначалу обращение с ней диктовалось ранней, категоричной и неразборчивой местью всему женскому полу. Честно говоря, я в ту пору и сам не знал, чего хотел – укусить или обратить на себя внимание. Стоит ли говорить, что моя любовь к Люси, поначалу напоминавшая нежелательную беременность, заведомо была обречена на родовую травму. Иначе и быть не могло: если от переживаний, подобных тем, что я испытал после разлуки с Ниной, льет слезы вся мировая литература от Тристана с Изольдой до тюремной лирики наших дней, то жестокосердие женского предательства будет ее возмущать еще не одну сотню лет.
У нее был прямой строгий нос с резными прозрачными ноздрями, которые подрагивали, когда она сердилась, а ее чертовски привлекательные черты дышали непререкаемой правотой и снисходительным сочувствием к недалеким умам. На вечеринках я подсаживался к ней, и мы вел и искристые, холодные и чистые, как снег, разговоры, которые чаще всего заканчивались ее искренним удивлением: «Ты, Юра, редкий пессимист!»
К Новому году мы с ней определенно подружились – то есть, пребывали в состоянии бесполой и приятной зависимости. Заходить дальше мне не позволяла моя скорбная и все еще живая любовь к Натали. Да, она постепенно превращалась в уксус, и для ее ускоренной ферментации нужен был кислород новой любви. Гоша, будучи в курсе моих сердечных дел, как-то заметил: «Ну, и правильно, чувак! Люська классная баба! Не то, что эта шалава Наташка!» И я подумал: а почему бы и нет? Нет, не влюбиться, а внушить доверие, достаточное для того, чтобы залезть под юбку. Да, да, именно под юбку, и ничего больше! А разве эти девчонки годятся на что-то другое? Интересно, на что я рассчитывал, собираясь таким незатейливым способом склонить к греху былую отличницу, образцовую комсомолку и нецелованную девственницу?
Новый год мы с ней встречали в компании одноклассников. Находясь в шальном, предавантюрном настроении, я выпил, словно горькую воду три больших рюмки водки и сидел, глупо улыбаясь, не в силах остановить янтарно-зыбкую карусель расплывшихся лиц. Ко мне подсела Люси, подложила кусок мяса и велела съесть. Я с коровьей задумчивостью прожевал его, и она подложила еще один. Я, все так же глупо улыбаясь, съел второй кусок, после чего она вывела меня в прихожую, обмотала мою шею шарфом, помогла попасть в рукава пальто, нахлобучила на меня шапку и увела, нетвердого, на улицу. Помню, что на лице моем проступило блаженное и покорное чувство признательности. Впервые после Натали обо мне молча и укоризненно заботилась женщина. Думаю, от этого чувства и зародился во мне эмбрион новой любви.
Когда щедро иллюминированная уличная карусель замерла, мы вернулись к дому, остановились у подъезда и примолкли. Мягкая, немигающая тишина окутала нас. Под ногами поскрипывал снег, неслышно вальсировали снежинки. Люси подняла ко мне лицо с вопросительным взглядом, и я неожиданно для себя вдруг склонился и коснулся ее губ, готовый к тому, что она их тут же отнимет. Но она не стала уклоняться, и я, ожидая встретить пустоту, ощутил губами теплую, нежную опору и припал к ней. Мы стояли, обнявшись и прижавшись губами, а мир вокруг нас замер и затаил дыхание. Потом Люси отстранилась, поправила на мне шарф, положила руки мне на грудь и, не поднимая глаз, тихо сказала: «Вот так носи, а то простынешь. И больше сегодня не пей, пожалуйста…» Позже она признается, что в этот момент не знала, куда девать глаза, потому что это был ее первый взрослый поцелуй.
В ту ночь я оказался в затруднительном положении: вместо того чтобы принять вызов, сжечь мосты и предаться строительству новых, я прислушивался к воплям, доносившимся из замка моего сердца: то в своей темнице корчилась и взывала к милости падшая Натали. А между тем Люси была хороша. Танцуя с ней, я сквозь тонкое теплое платье поговорил с упругим лифчиком, с подтянутой высокой талией, с узкой прямой спиной и даже, как мне показалось, перекинулся парой невнятных слов с верхней резинкой трусиков. Мы топтались в стороне от тесных пар, и Люси вдруг обняла меня, деревянного, за шею. Я склонился к ней, ее щека коснулась моей щеки, и я ощутил заоблачно-небесное благоухание ангельской карамели. Совершенно не к месту я представил ее в моей постели, замершую в моих объятиях, и у меня перехватило дух. Кролик медленно, но верно вползал в пасть удава.
Танец закончился, и чтобы привести чувства в порядок, я подсел к Гоше.
«Вижу, чувак, у тебе с Люськой полный нормулек!» – приветствовал он меня.
«Нормально!» – отвечал я.
Люси тем временем подошла к компании девчонок и они, хихикая и заглядывая ей в глаза, накинулись на нее с вопросами. Да, да с вопросами. Это было так очевидно! Трепеща от нетерпения, они ловили ее реплики, желая знать, как ей удалось прибрать к рукам самого Васильева.
«Неужели целовались?» – наверное, жадно интересовались они.
«А что тут такого? – наверное, спокойно удивлялась она. – Подумаешь – Васильев!»
Бориска Фомин запустил магнитофон, и несравненный Джо Дассэн забормотал про красивую заграничную любовь (о чем же еще он мог бормотать?), приглашая нас разделить его страдания. Сам не знаю почему, я сказал Гоше:
«Если Люси меня сейчас пригласит – значит, это судьба!»
При первых звуках музыки Люси повернулась ко мне и через всю комнату вопросительно на меня взглянула. Со мной что-то случилось: оцепенев, я смотрел на нее, не имея сил подняться. И пока я смотрел, к ней подкатил галантный Бориска, и Люси, помедлив, пошла с ним. Гоша отправился к Вальке, а я остался сидеть, одинокий и покинутый, наблюдая за тесным единением пар.
Выходит, не судьба? Выходит, так. Да только кто же в семнадцать лет верит в судьбу? В этом возрасте пока еще верят в любовь и в светлое будущее! Да если даже не любовь и не судьба: отношения наши с Люси зашли не так уж и далеко, чтобы горевать над их плачевной участью! И я, усмешкой сглаживая смущение, налил полную рюмку коньяка и выпил его, как Гоша учил – лихим гусарским махом. После чего обернулся в сторону танцующих и поймал укоризненный взгляд Люси: из Борискиных объятий она неодобрительно покачала головой.
Если понимать под судьбой нечто древнегреческое – человекоподобное, разумное и несовременное, то в такую ее ипостась я не верю. Если же иметь в виду некий замысловатый и безмозглый порядок вещей, который выходит нам то боком, то радостью – да, такую судьбу я признаю. С этим можно спорить, однако одно я знаю точно: судьба мудра и дальновидна. И когда она затевает свои многоходовые комбинации, когда не пускает нас туда, куда мы стремимся, она пытается уберечь от некой страшной участи не нас, а наших потомков. Впрочем, на этот счет существуют (и у меня в том числе) другие мнения.
Под утро я проводил Люси домой, и на прощанье мы долго целовались.
Молчали, смотрели друг на друга, улыбались и снова целовались. Мне было тревожно и радостно – как будто я одновременно нарушал строгий запрет и получал отпущение грехов.
И все же, зачем я в ту ночь побеспокоил судьбу? Зачем загадал? Зачем поставил на кон гармонию моей жизни?
Кстати, та песня Джо Дассэна называется «Индейское лето».