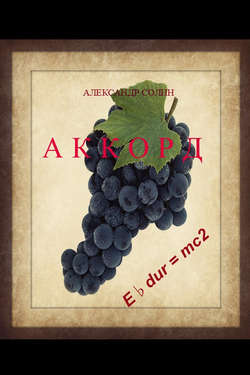Читать книгу Аккорд - Александр Солин - Страница 12
Люси
3
ОглавлениеПервый день мая мы провели вместе. С утра, примкнув к колонне завода, где она работала в технической библиотеке, побывали на демонстрации. Нас там никто не знал, и мы шли, рука в руке, помахивая веткой белых неживых цветов и увлекаемые царившим вокруг приподнятым чувством несокрушимого единства. Я с гордым удовольствием поглядывал на красивое, оживленное лицо Люси и время от времени со скрытым значением сжимал ее руку. После я часто вспоминал то чудесное майское утро – последнее мирное утро накануне нашей затяжной войны.
Эй! Отзовись, начищенное до блеска духовых инструментов восемнадцатилетнее солнце, льющее нежный свет на древние пейзажи Подмосковья, что древнее стен самого Кремля! Откликнись, доведенный до горной прозрачности, настоянный на почках, пьянящий воздушный напиток! Напомни о себе, крепкое, пружинистое тело, послушное малейшим указаниям любовного азарта! И вы, неунывающие медные трубы, и ты, пузатый провокатор-барабан! И конечно, ты, объятая священным идеологическим трепетом, неторопливая и нарядная народная река! Не говоря уже о тебе, неведомая, беспричинная радость – самодостаточная и упоительная! Отзовитесь и скажите – какое вам было до меня дело? Чего вам не хватало для прозрачного и тягучего, как мед счастья? Зачем вам потребовалось спихнуть меня на его обочину?
«Сегодня!» – сказал я себе, глядя в беззащитные и взволнованные глаза Люси.
После демонстрации мы пришли ко мне и ждали, когда родители уедут на дачу. Закрыв за ними дверь, мы сели целоваться. Сжимая в объятиях обмякшее, послушное тело Люси и перекатывая во рту сладкие леденцы ее губ, я замирал и говорил себе: «Сегодня! Наконец-то, сегодня!»
Потом мы отправились домой к Люси, где она переоделась, и когда солнце прожгло в крыше соседнего дома багровую дыру и провалилось в нее, мы двинулись на вечеринку к Гоше.
«Сегодня!» – сказал я себе после первой рюмки коньяка и ощутил приятное головокружение. Словно подстрекая меня, Люси в тот вечер была в широкой юбке, из которой, обтянутые мягкой белой блузкой, вырастали тонкая талия и аккуратный бюст – принадлежности в некотором смысле второстепенные, ибо, как учили старшие товарищи, главное в первый раз – это стремительно миновать стиснутые бастионы ног и атаковать заветный треугольник, после чего колени распадаются сами собой.
Весь вечер я вел себя с Люси как пошлый, неразборчивый соблазнитель: многозначительно сжимал под столом ее руку и после ответного пожатия взглядом своим, как огнеметом опалял ее встречный доверчивый взгляд. С нежным пылом исполнял ее редкие пожелания. Во время танцев с мягкой силой прижимал к себе – до соприкосновения бедер, до тумана в голове. Говорил, не спуская с нее глаз: тихо, многозначительно, низким, волнующим баритоном. Говорил о чем угодно, но не о любви. Говорил, чтобы прогнать неловкость, чтобы избавиться от причастности к тайному, постыдному заговору. Говорил, словно заранее прося прощения у ее доверчивого неведения, а на обратном пути, проходя мимо моего дома, пригласил ее подняться ко мне.
«Поздно уже…» – неуверенно ответила она.
«Мы ненадолго!» – пообещал я.
Мы поднялись ко мне и, покружив по квартире, устроились в гостиной на диване. Опасное, всепозволительное одиночество обступило нас. Приглашение к греху выглядывало из всех углов и витало в глуховатой тишине так материально и ощутимо, что Люси, словно обороняясь, закинула ногу на ногу и скрестила на груди руки. Было заметно, что она, как и я напряжена и взволнована. Радиоточка на кухне исполнила гимн и объявила о наступлении нового дня. Меня вдруг одолела спасительная робость.
«Хорошо сегодня погуляли!» – заговорил я, отказываясь от моего преступного замысла и испытывая облегчение.
«Да, мне понравилось!» – осторожно улыбнувшись, согласилась Люси.
Я припомнил некоторые забавные эпизоды вечера, она подхватила и прибавила к ним еще пару, и вот мы уже говорили легко и свободно, со смехом откидываясь на спинку дивана и жестикулируя там, где не хватало слов. Я подвинулся к ней и, вплетя мое движение в фейерверк повествования, обнял ее одной рукой за плечи. Она не отвергла ее, но тут же приняла свою прежнюю защитную позу. Я замолк и, придвинувшись к ее профилю, коснулся губами щеки. Она не пошевелилась.
«Людочка…» – пробормотал я и, неудобно изогнув шею, добрался до ее губ. Безучастные губы принадлежали недвижной статуе.
«Людочка… – снова пробормотал я, – ну, что ты… ну, поцелуй меня…»
«Поздно уже, мне пора…»
«Ну, подожди еще немного… Сегодня можно, сегодня же праздник… Ну, поцелуй меня…»
Люси нехотя разомкнула руки, повернулась ко мне и подставила губы. Я нежнейшими прикосновениями попытался сообщить им о моем желании – они меня не понимали. Я умолял их о пощаде – они меня не слышали. Я попытался вдохнуть в них жизнь – они не желали воскресать. Тогда я поддал им жару – они его терпеливо сносили. Раздраженный, я вдруг одним махом смел с ее колен юбку, мазнул рукой по чулкам и запустил ладонь в теплую, гладкую расщелину сжатых ног. Люси дернулась, вцепилась рукой в мою кисть и принялась отдирать ее от себя, одновременно пытаясь избавиться от моих губ. Я прижал ее к спинке дивана, опечатал ей губы, а большим пальцем лихорадочно давил на лобок, как на стартер, добросовестно ожидая, когда заведется ее мотор. Люси мычала, судорожно дергала головой и дрыгала ногами. Вдруг она отпустила мою руку и стала с размаху колошматить меня по плечу, по руке, по голове, по лицу. Ей удалось распечатать губы, и они взорвались возмущением:
«Пусти, дурак, пусти!»
«Ну, Людочка, ну, Людочка!..» – растерянно бормотал я, не рассчитывая на такой поворот.
«Пусти, говорю!» – взвизгнуло чужое некрасивое лицо.
И я отпустил ее.
Она вскочила и бросилась в прихожую, на ходу заправляя блузку. Не говоря ни слова, накинула пальто, сунула ноги в туфли и кинулась вон из квартиры. Я за ней.
«Ну, подожди, Людочка, подожди!» – бубнил я, едва поспевая за ней.
«Не трогай меня! Отойди от меня!» – резко остановившись, повернулась она ко мне. Я встал, как вкопанный в трех метрах от нее. На таком расстоянии и проследовал за ней до ее дома, беспорядочно повторяя:
«Ну, прости меня, Людочка, ну, прости, пожалуйста, ну, прошу тебя, прости!»
Перед тем как войти в подъезд, она обернулась и с высоким презрением бросила мне в лицо:
«Значит, вот для чего я тебе была нужна!»
С точки зрения соблазнителя я совершил ошибку. С точки зрения влюбленного я совершил непростительную ошибку. Оставалось выяснить, кем же я был. Выяснилось это довольно скоро – буквально на следующий день. Потому что соблазнитель не станет три недели подряд приходить каждый день во двор отшившей его барышни и, сидя под ее окнами, ждать, когда она утром выйдет на работу, а вечером возникнет из-за угла, чтобы идти за ней следом и повторять одно и то же:
«Людочка, ну прости меня, пожалуйста…»
На меня не желали смотреть, со мной не желали говорить, и через три недели, вконец измученный, я забежал вперед, встал поперек дороги и взмолился:
«Люда, ну не надо так! Ведь я же тебя люблю!»
На меня недоверчиво, исподлобья посмотрели и сказали:
«Подожди меня здесь»
В тот вечер мне уделили полчаса, за которые я, заикаясь и путаясь в словах, попытался смыть со своей репутации жирное пятно насильника и бесчувственного животного. Через полчаса я потерял бдительность и сказал:
«Людочка, мы ведь уже взрослые, и многие из наших этим уже занимаются! Возьми хотя бы Вальку с Гошей…»
Лучше бы я этого не говорил. Полоснув меня строгим кумачовым взглядом, она отчеканила:
«А я этим заниматься не хочу!»
На том моя аудиенция закончилась.
Но настоящий размер моей ошибки я понял только через месяц. До этого были вечерние собачьи бдения, вымаливания получасовых прогулок, заискивающие безответные улыбки и вымученные разговоры ни о чем. Классический случай истерической любви на коротком поводке. В конце июня Люси уведомила меня, что уезжает к тетке в Ленинград, где будет поступать на юрфак. Мои растерянные и глупые вопросы остались без внятных ответов.
Она поступила и, вернувшись, встретилась со мной. Настроение ее заметно улучшилось: она была настолько добра, что дала свой будущий адрес и разрешила ей написать. Больше того, она разрешила ее проводить. На Ленинградском вокзале мы с ней совершили бессмысленный и молчаливый круг – задели по касательной Ярославский вокзал, обогнули станцию метро и в зале ожидания воссоединились с родителями. Возможно, она рассчитывала услышать от меня нечто важное и перспективное, что могла бы учесть и принять в расчет. Как я сейчас понимаю, что-то вроде предложения руки и сердца: мое жалкое «Я же тебя люблю!» ее уже не устраивало. Но по какой-то растерянной причине я не сделал первого и не повторил второго. На том мы и расстались.
Я выдержал без нее полгода и даже написал ей несколько писем. В ответ она делилась своими ленинградскими впечатлениями, дополняла их скупыми подробностями университетского быта и избегала всякого упоминания о личной жизни. В письмах мы отдавали предпочтение не чувствам, а стилю. Приехав на зимние каникулы, она собрала у себя узкий круг подруг во главе с Валькой, куда призвала и меня. Гоша уже без малого год маялся в армии, и развлекать девичью компанию выпало мне.
Люси заметно изменилась: студенчество притупило романтические грани ее характера, снабдило лицо подчеркнутой независимостью и огородило ее фигуру потрескивающим полем снобизма. Она по-другому смотрела и причесывалась, выражалась с ироническим элитным шиком, и черный облегающий свитер ей очень шел. Тем удивительнее было мое открытие: я рассматривал ее без прежнего волнения. Провожая меня, Люси тихо спросила:
«В гости не пригласишь?»
«Да ради бога!» – встрепенулся я.
«Когда?»
«Да хоть завтра! Часа в два!»
Назавтра в два она была у меня. Подставила щеку и обошла квартиру. С любопытством осматриваясь по сторонам, она нашла, что ни я, ни квартира не изменились. Затем прошла со мной на кухню, где мы манерно выпили по чашке чая. Люси восторгалась Питером и хвалила Вальку, которая так верно и самоотверженно ждет своего Гошу, обещавшего, кстати говоря, по возвращении на ней жениться. И, забегая вперед, скажу, что таки женился!
«Пойдем в твою комнату» – предложила она после чая и, не дожидаясь моего согласия, поднялась и направилась туда первой.
«А у тебя здесь все по-прежнему, – заметила она, усаживаясь на диван. – Не сыграешь?»
Я изобразил ей мои последние достижения в области импровизации, и она сказала, что тоже увлеклась джазом. Даже посещает иногда репетиции университетского джаз-оркестра. Вот так неожиданность, вот так пассаж!
Не хватало только, чтобы после репетиций какой-нибудь бородатый пианист провожал ее до дома! А впрочем…
«Посиди со мной» – попросила она, и я присел рядом.
«Помнишь, как мы здесь целовались?»
«Еще бы!» – откликнулся я.
«Не хочешь меня поцеловать?» – вдруг предложила она.
«Да я уже и боюсь!» – усмехнулся я.
«Не бойся!» – усмехнулась она, подставила губы и закрыла глаза.
Я сразу заметил в поведении ее губ незнакомое нервное волнение. Я старательно целовал их, но желание мое не разгоралось. Она отстранилась и сказала:
«Помнишь, на чем мы остановились в последний раз?»
«Еще бы не помнить!»
«Так вот: сегодня я сама говорю, что хочу этого!»
Вот так эволюция, вот так экспонента, вот так блажь, вот так блюз! Оторопев, я взглянул на ее заметно побледневшее лицо. Оказывается, ее глаза могут быть сумасшедшими! И что прикажете мне делать?
Помолчав, я спокойно сказал:
«Думаю, нам не стоит этого делать…»
«Почему?» – быстро спросила она.
А действительно – почему? Почему мое остервенелое некогда желание обернулось вежливым отказом? И здесь самое время сообщить, что учился я ни больше, ни меньше как на общеэкономическом факультете Плехановки. Ничего странного для ребенка, у которого папа – финансист, а мама – плановик. Куда интересней, как в очкастой, низкорослой семье вырос зоркий, симпатичный баскетболист ростом сто восемьдесят четыре сантиметра.
К этому времени я основательно окунулся в студенческую жизнь. Мои спортивные способности были оценены местом в баскетбольной команде факультета, а музыкальная сноровка имела наглость сколотить джазовый квартет из таких же негров-слухачей, как я сам. В спортивном зале меня возбуждали голоногие, потные пантеры, об одной из которых, Ирен, речь впереди, а на репетиции квартета собирались поклонницы с томной статью, таинственно мерцающими очами и ультрасовременными воззрениями. Да как, скажите, можно пылать платонической любовью на расстоянии, когда рядом столько покладистых прелестниц?! Если, конечно, не страдать редким психическим расстройством. Все это я к тому, что исход у истерической любви такой же, что и у истерической беременности: в один прекрасный день ты просыпаешься и вдруг понимаешь, что здоров.
Был, однако, у моего отказа и благородный отлив. Если бы мне предложила себя случайная, необязательная женщина, я бы, без сомнения, воспользовался ею. Люси же была для меня больше, чем память и дороже, чем школьная подруга, и вот так, походя распорядиться ее слабостью, мне не позволяла совесть. Впрочем, за нашим благородством, которым мы тайно и явно гордимся, чаще всего скрываются причины сугубо прозаичные. Вот и здесь: переспи я с Люси, и у меня возникнут обязательства, которые я не смогу игнорировать. Как честный человек я просто обязан буду на ней жениться! Но перед этим нужно будет изображать пылкого влюбленного, подтверждать это лживыми письмами, терпеть добровольное воздержание, и я не знаю, что еще. Любил ли я Люси? Нет. Наши отношения откатились к рубежам дружбы, а спать с подругами может только недалекий и неразборчивый человек.
«Потому что так будет лучше для нас обоих, поверь мне!» – как можно убедительнее сказал я.
Люси откинулась на спинку дивана, закинула ногу на ногу, скрестила на груди руки и так сидела с полминуты, глядя перед собой. Затем рывком поднялась, прошла твердым шагом в прихожую (я за ней), дала себя одеть и, ни слова не говоря, оставила меня. Через несколько дней она незаметно и не прощаясь уехала.
Еще через две недели я получил от нее необязательное и малосодержательное письмо, на которое ответил в том же духе. В дальнейшем письма от нее приходили регулярно. Летом я уехал, а вернее, сбежал в стройотряд. А еще точнее, воспользовался удобным поводом, чтобы провести каникулы за тридевять земель от ее строгих, укоризненных глаз. Осенью мы по ее инициативе возобновили переписку и увиделись только зимой восемьдесят первого – в самый разгар моих бурных отношений с Ирен. Облик ее и повадки стали еще более изысканными и покрылись прочным налетом северного аристократизма. Я совершенно искренне, дружески и громогласно радовался ее новым сияющим граням, суля ей видные и звонкие перспективы. Она же, как я теперь понимаю, желала лишь одного: прояснить мои виды на наше совместное будущее. Видимо, не прояснила, и через месяц я получил от нее письмо, в котором она сообщала, что собирается замуж за ленинградца и что это ее письмо ко мне последнее. Она желала мне счастья и выражала надежду, что, может быть, когда-нибудь мы свидимся. Письмо заканчивалось словами: «У меня всё».
Разумеется, я ответил. Ответил в самых изысканных и пожелательных выражениях, борясь с сильным желанием поглумиться над ее холодным целомудрием, которым она заморозила наши перспективные отношения. В конце я написал: «Теперь и у меня всё». И как раз тут я сильно ошибался: это был вовсе не конец, а самое что ни есть начало. Недаром Люси в ее положении седьмой пониженной ступени обречена быть родовым признаком блюзового лада. А тот, кто имеет дело с блюзом, грустен, мудр и неприкаян, и разорвать блюзовый квадрат может только смерть.
Не прощаемся с Люси: если трещина от нее пробежала через мою жизнь, значит, она должна пробежать и через этот роман. Спешу, однако, предупредить, что у меня две жизни: первая – до развода, вторая – после него. Так вот, Люси есть дама пик из первой колоды моего жития.