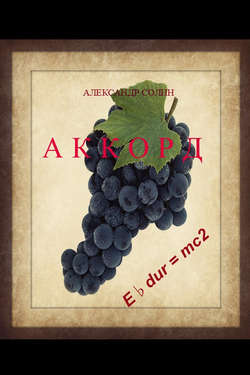Читать книгу Аккорд - Александр Солин - Страница 11
Люси
2
ОглавлениеХочу поделиться одним важным выводом, к которому меня привела порочная привычка к наблюдениям и размышлениям. Хочу, ни больше, ни меньше, внести свой вклад в теорию любви. При этом я имею в виду не бытовую ее версию с двумя постулатами «все бабы – дуры» и «все мужики – сволочи», а ту, где постулат всего один, но зато великий: «Любовь, как и поэзия есть сотворение мира».
Всякая интимная любовная практика питает публичную любовную теорию, и среди ее методов язык (lingua) – самый распространенный, а любовный роман – один из его самых уязвимых и неточных инструментов. И не потому что мы пользуемся одними и теми же неловкими словами, а потому что точность и объективность противны природе художественного творчества. Не существует любви, как таковой, но существуют ее бесчисленные воплощения, и любовный роман – их непозволительно вольный пересказ. Упаси вас бог изучать любовь по любовным романам!
С другой стороны, следует опасаться приверженцев точных наук. Если для меня любовь – всемирная форма чудесного помешательства, то для них она – внештатное состояние, измененное (разумеется, в худшую сторону) сознание, результат внушения и самовнушения. Для них любовь – хорошо обжитые, можно даже сказать, заплеванные места. Пашня, которой все равно, какое зерно в нее бросят. Одухотворение обнаженной груди и голых коленок. Вскипающие пузыри необоснованного воодушевления и жалкий пшик неизбежного разочарования. Они приравнивают любовь к наркотической зависимости и видят в ней не более чем стремление к удовольствию. Повелители аптекарских весов, они утверждают, что им ведома ее ДНК. Они говорят: достаточно обдать вас феромонами и блокировать ими действие прогестерона, а после запустить у вас производство фенилэтиламина – et voila! – вы в зависимости у объекта вашего влечения. А дальше выбирайте, какая любовь вам по душе – романтичная, безответная или взаимная – и в соответствие с выбором принимайте допамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. И не забудьте про тестостерон и эстроген. И будет вам абсолютное счастье, даже если оно невыносимо мучительное. Словом, для них любовь есть род хорошо изученной болезни, поражающей в первую очередь людей с ослабленным любовным иммунитетом.
В чем я, пожалуй, с ними соглашусь, так это в том, что у каждого из нас существует вторая половина, найти и соединиться с которой не удавалось еще никому на свете. Факт давно известный, но теперь еще и подтвержденный научно. Не хватает лишь прибора, который мог бы определять местонахождение нашего второго «Я». Уверен, есть люди, готовые отдать за такой прибор полцарства.
Однако при всей учености моих оппонентов им ни за что не объяснить причин круговорота любви в природе, когда она с земли возносится на небо, а оттуда низвергается обратно на землю и попадает в канализацию, откуда вновь устремляется в небо. Им остается только гадать, каким образом любовная антигравитация отрывает нас от земли и перемещает в другое измерение. И как они объяснят поведение сердца, раненого кривым ножом измены и все же готового, подобно лифту, вознести до небес очередную пассажирку? И поддаются ли расшифровке поэтические чудачества влюбленных?!
Далее. Наперекор их теории я утверждаю, что свергнутая любовь не разлагается на составные части и не выводится из организма, а остается в нашем сердце и нашей памяти навсегда. Таким образом, перед нами сводный хор пленниц, и мы, указав дирижерской палочкой на любую из них, можем заставить ее петь громче других. Доказательством тому служат мои текущие заметки. Но это, так сказать, предпосылки к открытию. Само же открытие касается не голосов пленниц, а их взаимодействия и заключается вот в чем.
У каждой любви свой голос, но мелодия у всех одна. И когда к голосу первой любви через какое-то время присоединяется голос второй любви, а за ней третьей, и так далее, то под сводами нашего сердечного храма звучит, по сути и по содержанию, религиозный любовный гимн в форме канона. Не многоголосый хорал, а именно канон, слушать и понимать который дано далеко не всем. Трудность тут в том, что с возрастом число голосов растет, и среди них начинают попадаться фальшивые и нерадивые. В результате полифония превращается в какофонию, и тут уж в ней сам черт не разберет! Но если у зонгеркоманды есть проблемы, то это забота капельмейстера, не так ли? Теперь-то вы, надеюсь, понимаете, зачем я затеял ревизию голосов? Впрочем, пока мелодию подхватил всего лишь третий голос, и мой канон звучит вполне стройно.
…Разбежавшись, я подпрыгнул, помятые крылья подхватили меня и понесли. Сначала я кружился на низкой высоте, словно высматривая, не машут ли мне из тех мест, которые собирался покинуть. Не уверен, что я не спикировал бы, если бы меня снизу окликнула Натали. Люси, чья начальная скорость была равна моей, тоже не спешила набирать высоту и летела рядом со мной.
Все вечера и выходные были теперь в нашем распоряжении. Лыжные вылазки, каток, кино, неспешные прогулки и нетающие снежинки на ее длинных ресницах. Серьезные разговоры о настоящем и будущем. Однообразные целомудренные поцелуи, которые Люси, не понимая в них толк, считала, видимо, единственно возможными. Я вел себя с ней внимательно и сдержанно. Самая, скажу я вам, подходящая манера обращения с девушкой, в которой не было пасторальной непосредственности Нины, ни отчаянной безрассудности Натали. Она был а спокойна, любознательна, заботлива и рассудительна. «Серьезная девушка» – говорили про нее. Серьезная и красивая. Таким место в президиуме.
Раньше она вела классные собрания и солировала в школьном хоре, теперь обсуждала с моей матерью экономику домашнего хозяйства, а с моим отцом – новости международной политики. Сидя со мной на диване, она без малейшего смущения обращала на меня внимательное лицо, где на дне светло-серых безмятежных лагун пульсировала черная приманка спелой девственности. Когда она просила меня что-нибудь сыграть, я играл ей прелюдии Гершвина – мои первые, робкие подступы к джазу. На восьмое марта я подарил ей семь малиново-бледных, мелкозубчатых гвоздик. К этому времени сдержанность моя сменилась осторожным воодушевлением, которому, однако, было далеко до того замирающего блаженства, что я испытывал с Ниной и Натали.
Может, из-за отсутствия любовного опыта, а может, потому что такими были ее представления о мужских ухаживаниях, но моя чувственная скупость ее нисколько не беспокоила. Странно, ведь рядом находились Гоша и Валька, которые время от времени ярко и громко ссорились и так же феерически мирились, не говоря уже о том, что Валька, числившаяся у нее в близких подругах, могла рассказать ей много занимательного и полезного про балаганную пестроту и затейливость межполовых отношений. Но нет, в ее чистом, доверчивом взгляде отсутствовал даже намек на похотливое подстрекательство. Но ведь подстрекателем мог быть и я!
Любил ли я Люси в то время? Если говорить о той заоблачной, задыхающейся мере, что я установил сам себе, то нет. Но я привязался к ней, сильно привязался. Мы хорошо смотрелись рядом – натурально плакатные юноша и девушка. Серьезные и красивые, спокойные, уверенные и сознательные. Пропитанные советским l'aire du temps. Будущие строители коммунизма. Будущие создатели ячейки советского общества. Но как раз этого я делать не собирался. С Ниной – да, с Натали – да, с Люси – нет. Ведь жизнь, как оказалось, только-только начиналась!
Как-то в середине апреля у нее на работе выпал свободный день, и я, не поехав в институт, привел ее к себе. Была середина дня – как раз та его поясничная часть, за пазухой у которой мы так часто и удачно прятались с Натали. Мы сели на диван и приготовились целоваться. Обняв ее, я стал играть с ее губами, чего раньше не делал. Я не отпускал их так долго, что она даже уперлась руками мне в грудь, но освобождаться не спешила. Игра возбудила меня. Подперев одной рукой ее напряженную спину и придерживая ее голову другой, я набросился на безвольно откинутое лицо с короткими, торопливыми поцелуями. Рот ее приоткрылся, сомкнутые ресницы подрагивали, кулачки на моей груди сжались. Вернувшись к ее губам, я принялся облизывать их и посасывать, словно сладкую малиновую конфету – до тех пор, пока не почувствовал, что ее руки приготовились оттолкнуть меня. И тогда я тихо отстранился. Ее ресницы дрогнули и раскрылись, словно мохнатые лепестки зрячего цветка. Ровные, сухие щеки разгорелись, серое дно лагун заволокло изумлением, влажные губы набухли и покраснели. И то сказать: такого массажа я им еще не делал!
Я потянулся к ее лицу и, искупая брутальность нежностью, покрыл его легкими, воздушными поцелуями. После этого вернулся к ее губам, и они робко мне отвечали. На третий раз она, превзойдя самоё себя, принялась целовать мое лицо. Выходило так неловко и нежно, что меня прошибло давно забытое умиление, отчего лифт моего сердца взлетел еще на один этаж.
Не могу здесь не сказать вот о чем: у нее был роскошный рот, у нее были выдающиеся губы, которым она не знала цены. Великий адалюбец сказал бы, что рот ее похож на рану. Добавлю только, что рана ее была красивой, глубокой и незаживающей. Все тот же непревзойденный сластолюбец заметил бы, что ее верхняя губа подобна летящей птице. Если птице, почтительно добавлю я, то из породы райских. По мне ее губы походили на застывшие волны: круто взметнулась верхняя, обнажая жемчужное дно, а нижняя, такая же тугая и полноводная, прорвала жемчужную запруду и готовилась затопить мое сердце. Ее губы – это сама любовь в живой пластической форме. Но не дай бог их обидеть: они, словно розовый моллюск, тут же смыкали створки и передавали слово строгим глазам.
«Эх, ты! – сказал бы мой друг Гоша. – Не можешь описать губы, а туда же: берешься писать про любовь! Вот я, например, не морочу голову ни себе, ни другим, а просто поедаю их, как сочную, ароматную клубнику!»
Перед тем как уйти, она посмотрела на себя в зеркало, обернулась ко мне и укоризненно сказала:
«Посмотри, что ты сделал с моими губами… Что я теперь дома скажу…»
И я в припадке нежности сгреб ее в охапку вместе с темно-коричневым (падчерица школьной формы) шерстяным платьем, комсомольским значком, доверчивыми глазами, набухшими до барабанной звонкости губами, зеркалом, квартирой, городом и весной. Жизнь моя снова выбиралась на большую дорогу.
Посеяв в Люси порочное желание, я ухаживал за ним, как за капризным экзотическим растением. Наблюдал, как распускаются его стыдливые цветы, как после очередной прививки страсти Люси в полном смятении отстраняется от меня, и черная приманка на взбаламученном сером дне ее лагун наливается дрожащим отблеском пламени. Мне казалось – еще чуть-чуть, и она сама попросит меня об ЭТОМ. Я методично и расчетливо подталкивал ее к краю, не думая о том, что будет с нами после. Перед сном ее горячая, обнаженная тень витала надо мной и, прикасаясь к моим губам и бедрам, ввергала меня в сладко-мучительный, гулкосердечный транс, избавиться от которого можно было лишь одним-единственным способом. Интересно, думал я, если девчонки испытывают то же самое (а они непременно должны испытывать что-то подобное), то как она может терпеть эту пытку, зная, что есть я?