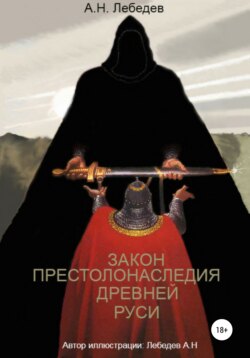Читать книгу Закон престолонаследия Древней Руси - Алексей Николаевич Лебедев - Страница 11
Раздел I. Походы
Глава III. Рюриковичи
Часть I. Княгиня Ольга. Кто есть, кто?
Часть I. I. Поездка Ольги в Константинополь
ОглавлениеВступление. Теперь настало время разобраться с такой темой как поездка Ольги в Константинополь.
В «Повести временных лет» данное событие изложено таким образом, что складывается впечатление о том, что единственная цель, которую Ольга преследовала вовремя поездки в Константинополь, было желание креститься.
Понятно, что раз иной точки зрения не высказано, то такая трактовка события признается, чуть ли не единственно верной.
Обычно, данной темой занимаются служители культа, которыми такая поездка рассматривается исключительно с позиций смены вероисповедания на Руси и, значит, удовлетворяет интересы лишь церкви и клира. Причина такого подхода к данной теме с их стороны понятна, и ничего не было бы в этом предосудительного, если бы такой подход не воспринимался в качестве стремления навязать такую точку зрения всему обществу, затемнив этим самым все остальные события той далекой поры. Таким образом, стороннего наблюдателя не покидает уверенность в том, что делается это намеренно с целью сокрытия каких-то других более важных событий. То есть, поддаваясь на навязанный взгляд на события, мы осознано лишаем себя возможности разобраться в реальных причинах такой поездки.
Тут дело еще и в том, что если бы Ольга была отшельницей, жила в какой-нибудь глухомани и была простой смертной, то такую ее поездку действительно можно рассматривать в качестве ее частной инициативы и вопросов по поводу таких ее действий не возникало бы. Но все дело в том, что Ольга жила в обществе, в котором существовали какие-то потребности и взгляды на происходившие события, да к тому же была не последним лицом в государстве.
Отразив точку зрения и интерес к этому событию только лишь одной группы населения и зафиксировав в этом ее интерес, мы тем самым забываем о том, что мир и общество как в прошлом, так и в настоящем были и остаются более многообразными. Отсутствие же взгляда на поездку Ольги в Царьград с одной единственной целью – смены вероисповедания нельзя не признать однобокой и тенденциозной.
Но такой вывод, пробуждает естественный интерес взглянуть на поездку Ольги в Константинополь со стороны остальных слоев древнерусского общества.
Особо стоит коснуться взгляда на названное событие правящего слоя общества Руси. Если мы вспомним о том, что Ольга была членом этого самого слоя, то не трудно заметить, что ее действия не могли идти в разрез с интересами этого слоя. То есть, Ольгу нельзя рассматривать в качестве атомарной и независимой единицы этого общества и, следовательно, ее действия должны быть рассмотрены через призму интересов к такому событию правящего слоя Руси.
Поскольку понимание того, что ответы на эти вопросы являются ключевыми в вопросах понимания того, что происходило на Руси в то далекое время, важность поиска таких ответов становится очевидной.
Здесь нам предстоит найти ответы на ряд вопросов, а именно; когда, в каком году и в какую пору года состоялась такая поездка? Предстоит выяснить и то, какова была цель поездки Ольги в Константинополь? Для чего она туда ездила? Что ей там было нужно? Что за обстоятельства заставили ее туда ехать?
Именно по этой причине на поездку Ольги в Константинополь и предлагается взглянуть именно с позиций интересов к этому событию господствующего слоя на Руси.
Что есть в источниках? Как в таких случаях принято, посмотрим какая информация о поездке княгини Ольги в Константинополь содержится в источниках.
Первый источник – это «Повесть временных лет». В названном источнике повествуется о том, что в 955 году (В лѣто 6463[238]) княгиня Ольга посещала Константинополь. В ходе такого визита, Ольга встречалась с патриархом и императором Константином[239]. Результатом такого посещения Ольга была крещена самим императором. В то же время следует отметить, что в "Повести временных лет" названа датой поездки Ольги в Константинополь (год 955 – В лѣто 6463), но ни слова не сообщает о том, в какую пору года это произошло.
Второй источник – это «О церемониях византийского двора»[240], или просто «О церемониях», написанный самим императором Константином Багрянородным, который «Повестью временных лет» как раз и назван крестителем княгини Ольги. В источнике есть упоминание о визите княгини Ольги в Константинополь и ее приеме императором, но нет упоминания об ее крещении.
Во 2-й книге, в главе 15-й названного источника, посвященной церемонии приемов иностранных послов в Большом тронном зале императорского дворца, описаны два приема «Ольги Росены», или, как сказано в кратком оглавлении ко 2-й книге, «игемона и архонтиссы Ольги Росской».
Более того, в источнике названы дни приема Ольги в Константинополе (9 сентября в среду и 18 октября в воскресение), но не указана дата такого приема. Если же привязать данные даты к годам, то указанные дни недели придутся на 946 и 957[241] годы.
Третий источник – это немецкая хроника "Продолжателя Регинона Прюмского"[242]. В источнике не названо ни года поездки, ни тем более времени года, когда такая поездка осуществлялась. Зато, как и в «Повести временных лет» имеется ссылка на то, во время правления какого из византийских императоров произошло данное событие. Правда, тут уже таким императором назван не Константин, а Роман: "отмечено крещение Ольги-Елены русской королевы в правление императора Романа в Константинополе"[243]. Хотя и тут не все понятно. Во времена правления какого императора Романа происходило крещение Ольги; во времена правления Романа I Лакапина[244], находившегося у власти с 12 декабря 919 год по 16 декабря 944 года, или же во время правления Романа II[245], который правил Византией с 959 года? Получается, что если привязывать дату поездки Ольги в Константинополь к дате правления императора Романа, то такая поездка никак не может быть привязана ни к одной из дат, указанных как в русской летописи, так и в записях Константина Багрянородного.
Получается, что информация, содержащаяся во втором источнике, не подтверждает информацию, содержащуюся в первом, а информация, содержащаяся в третьем – противоречит информации, содержащейся как в первом, так и во втором.
Существует еще и четвертый источник – это «Обозрение истории», автором которого является Иоанн Скилица[246]. Однако в данном источнике подтверждается лишь факт нахождения княгини Ольги в Константинополе. Каких-либо уточнений о том, когда в какую пору года и в каком году такое событие произошло, не уточняется: «И жена некогда отправлявшегося в плавание против ромеев русского архонта, по имени Эльга, когда умер ее муж, прибыла в Константинополь. Крещенная и истинной вере оказавшая предпочтение, она, после предпочтения [этого] высокой чести удостоенная, вернулась домой»[247]. Стоит отметить, что данное событие Иоанном Скилицей не датировано. Данная запись всего лишь подтверждает тот факт, что поездка Ольги в Царьград состоялась уже после смерти ее мужа.
Стоит назвать и пятый источник – «Память и похвала русскому князю Владимиру, како крестися Владимер и дети своя крести и всю землю Русскую от конца и до конца, и како крестися бабка Владимера Ольга, преже Владимера», автором которого считается Иаков Мних[248]: "По святем крещении си блаженая княгини Ольга живе лет 15 и угодив богу добрыми делами своими, и успе месяца июля в 11 день в лето 6477(969 г.)"[249].
Что мы в итоге видим в источниках?
Во-первых, данные источники подтверждают факт прибытия Ольги в Царьград и ее прием на наивысшем уровне, как и факт ее крещения.
Во-вторых, учитывая противоречивость в датировке данного события, ни на один из источников нельзя опереться в качестве достоверного документа, датирующего нахождение княгини Ольги в Константинополе. Мы имеем, как минимум три даты, когда Ольга могла находиться в Константинополе: 946 год или в 957, 955 или 955/956 год, и неизвестная дата, когда именно и произошло крещение.
В-третьих, ни в одном из источников не называется того, что целью поездки Ольги в Царьград было именно крещение. Более того, именно древнерусский источник и указывает на то, что целью такой поездки в Константинополь была какая-то иная цель, которая и ставилась княгиней изначально. Просто так сложились обстоятельства.
В-четвертых, при чтении источников и сопоставлении информации, содержащейся в них, складывается такое впечатление, что визит княгини Ольги в Константинополь, был не один. Таких визитов было несколько, и были они в разные годы.
В-пятых, если придерживаться устоявшейся точки зрения на произошедшее событие о том, что был только лишь один такой визит, то к похоронам желания разобраться в ситуации следует приступить незамедлительно. Но для того, чтобы поставить в этом вопросе точку, следует придерживаться именно версии о нескольких таких визитах. Именно такой подход позволяет понять, что же в реальности произошло в те далекие годы.
Как решать проблему? Еще Г. Г. Литаврин обратил внимание на то, что все попытки решить названную здесь задачу постоянно наталкиваются на непонимание того, как именно следует увязывать получение в результате крещения княгиней Ольгой в Константинополе имени Елены. Различные предлагаемые версии решения данной проблемы, не приводят к получению одного единственного и верного результата.
В вопросе датировки поездки княгини в Константинополь стоит обратить внимание на одну маленькую деталь, на которую почему-то внимания никто не обращает: в православии при крещении человеку дается то имя, которое стоит в святцах в день его крещения. Если же на этот день имя в святцах отсутствует, то из святц берется имя, стоящее ближе к дню крещения. Учитывая то, что "День Ангела" всех Елен приходится на 3 июня (по новому стилю), можно констатировать то, что крещение Ольги в Константинополе произошло именно 3 июня или в ближайшие к нему дни. То есть, крещение состоялось или в начале лета, или в первой его половине и оно точно никакого отношения не имеет ни к дате, стоящей в русской летописи, ни к дате, которая может быть привязана к источнику, написанному Константином Багрянородным.
Если же попробовать увязать дату поездки Ольги (Елены) в Константинополь с принятием ею крещения, произошедшего около 3 июня[250], то окажется, что приведенные выше даты (946 год или в 957, 955 или 955/956 год) ни как не могут быть связанными с датой крещения Ольги. То есть, если крещение Ольги и состоялось, то произошло оно в совершенно другой год, который в источниках не указан. В связи с этим, перед нами появляется конкретная задача, которая состоит в том, чтобы отыскать именно этот самый не названный год.
Кто был в Константинополе? Но прежде чем приступить к поиску такой даты, нам предстоит разобраться в том, кто именно принимал крещение в Константинополе? Среди кого осуществлять отбор?
Казалось бы, в чем вопрос, если единственным кандидатом на эту роль может рассматривать только лишь княгиня Ольга? Однако, если до нас в качестве княгини рассматривался только лишь один человек, то нами показано, что в реальности таковых было трое: Ольга – Прекраса, Ольга – Елена и Ольга – Предслава. По этой причине и возникает вопрос, а кто из этих троих и ездил в Константинополь?
Для того, чтобы найти такого человека, нам предстоит вспомнить о том, что к моменту поездки Ольги в Константинополь, на Руси в живых оставалось две жены князя Игоря, носивших одно и то же имя – имя Ольги. Одна Ольга была урожденной Предславой. Вторая Ольга была матерью Святослава и была болгарской княжной Елена.
Еще одна жена Игоря – Прекраса, ушла в мир иной вскоре после смерти своего мужа еще в 941 (941/942) году.
Остается вопрос, какая из живших на тот момент Ольг принимала участие в поездке в Константинополь и принимала там крещение?
Казалось бы, что Ольгой, которая и принимала крещение в Константинополе, следует назвать Ольгу—Предславу. Именно она была некрещеной и такое желание могло возникнуть именно у нее. Однако все портит вопрос о том, а с чего бы это вдруг язычница захотела стать христианкой? И это в языческой-то стране…
И вот тут самое время вспомнить о дне ангела Елен – 3 июне. Как вспомнить и о том, что болгарская княжна была крещена еще в младенчестве и носила то же самое имя, которое и было получено Ольгой во время крещения в Константинополе.
Таким образом, участие в поездке в Константинополь могла принимать только лишь мать Святослава.
В поисках даты. Теперь попробуем заняться поиском даты поездки.
В данном случае следует согласиться с тем, что сведения, приведенные Константином Багрянородным о визите Ольги, никакого отношения к ее крещению не имеют. Да, в общем-то, о крещении в них он ничего и не сообщается. А это значит, что ни в 946, ни в 957 годах крещения Ольги не было. Видимо у Константина Багрянородного речь шла о каком-то другом визите, который состоялся уже после повторного крещения. По этой самой причине затею о том, чтобы крещение княгини считать произошедшим во времена правления императора Романа II ("отмечено крещение Ольги-Елены русской королевы в правление императора Романа в Константинополе"[251]), как и во времена императора Константина, придется оставить в покое. Все это позволяет нам сузить границы поиска.
Но, если крещения не могло произойти во времена правления Романа II, то произойти оно могло только лишь во времена правления Романа I Лакапина. Таким образом, если не ставить под сомнение факт встречи Ольги с императором, принятие из его рук крещения и слов, сказанных императором об Ольге, то придется признать, что слова эти были сказаны отнюдь не императором Константином, а императором Романом I Лакапином.
Но из этого следует еще один вывод; крещение не могло состояться позднее 16 декабря 944 года. А если мы еще и вспомним о Дне Ангела, то такая поездка Ольги не могла состояться позднее июня 944 года. При этом, обращаем внимание читателя на то, что нами не ставится под сомнение факт крещения Ольги в Константинополе, а значит и достоверность сообщения об этом, дошедшего до нас в «Повести временных лет».
Если же мы вспомним о том, что декабрь лета 6452 – это фактически декабрь 943 года, ибо в то время год, как в Византии, так и на Руси, начинался с 1 сентября, а не с 1 января, как сейчас, то декабрь следует признать четвертым месяцем, а не двенадцатым в году. Таким образом, 16 декабря 944 года (последний день правления Романа I Лакапина) – это, в нашем исчислении, в действительности будет 16 декабрем 943 года.
Таким образом, крайняя дата, когда и могло быть совершено крещение – это июнь 943 года.
Теперь попробуем определить дату, раньше которой такое событие тоже произойти не могло. Тут полезно вспомнить о записи содержащейся в «Обозрении истории» Иоанна Скилицы: «И жена некогда отправлявшегося в плавание против ромеев русского архонта, по имени Эльга, когда умер ее муж, прибыла в Константинополь. Крещенная и истинной вере оказавшая предпочтение, она, после предпочтения [этого] высокой чести удостоенная, вернулась домой»[252].
Таким образом, Ольга не могла прибыть в Константинополь раньше 01 января 942 года. Значит, поездка Ольги в Константинополь могла состояться только лишь в промежутке между январем 942 и июнем 943 года.
Теперь попробуем сузить промежуток времени для поиска еще больше.
На том основании, что летописью крещение Ольги датируется временем, следующим за временем подавления древлянского восстания, а сама Ольга в подавлении этого самого восстания принимала самое непосредственное участие, то получается, что до завершения этих событий Ольга в Константинополь поехать тоже не могла. Если до гибели мужа у нее не было оснований ехать в Константинополь, то сразу же после его гибели – не было времени.
Подтверждает такой вывод и текст летописи: Ольга "Иде… по Деревьской земли съ сыномъ своимъ и дружиною своею, уставляющи уставы и уроки: и суть становища ея и ловища ея. И приде в городъ свой Киевъ съ сыномъ своимъ Святославомъ, и пребывши лето едино"[253]. Как видим, по окончанию операции по подавлению восстания, Ольга объезжала Древлянскую землю, устанавливая там размер дани и места ее сбора. Остаток лета Ольгой был проведен в Киеве[254].
С наступлением нового года, то есть, с 1 сентября 942 года (942/943 г) "Идет Олга к Новугороду и установила по Мсте погосты и дань, и по Лузе погосты и дань и оброки: и охотничьи угодья свои по всей земле, и знамения и места и погосты"[255]. Таким образом, до зимы 942–43 годов Ольга была занята решением дел, накопившихся внутри страны, а это значит, что до января 943 года ни о какой поездке княгини в Константинополь речи тоже идти не может. Если учесть зимние погодные условия и вспомнить о непроходимости путей и дорог в это время, то сроки поездки в Царьград придется отодвигать еще, как минимум, до средины весны или же до апреля-мая 943 года, то есть, до той поры пока не сойдут снега и ото льда не вскроются реки.
Вспомнить придется и о том, что движение по рекам в те времена начиналось уже в начале лета, что подтверждает и Константин Багрянородный: «И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву, которая является крепостью пактиотов россов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь спускаются по названной реке Днепр»[256].
Это заставляет время, отпущенное княгине Ольге для визита в Константинополь, сократить с апреля 943 – по июнь 943 года. Как не крути, но необходимость поспеть в Константинополь ко дню ангела (к 3 июня), заставляет датой отъезда Ольги в Царьград назвать конец весны 943 года.
В связи с этим, стоит задуматься и над тем, что если в указанный промежуток времени должна была состояться поездка Ольги в Константинополь, то нет ли в источниках упоминания об осуществлении каких-то контактов между Византией и Русью на уровне посольств в высчитанный нами промежуток времени?
Оказывается, есть! Это событие зафиксировано в «Повести временных лет»: "В год 943. Вновь приходили в Царьград, и мир сотворив с Романом, возвратились восвояси"[257].
Таким образом, получается, что в течении одного года (943) произошло два немаловажных события. Первое событие – это поездка княгини Ольги в Константинополь и принятие ею там крещения. Второе событие – это прибытие в тот же Константинополь посольства Руси, требовавшего от Византии соблюдения ею статей договора, заключенного между двумя этими странами еще в 941 году.
Но данная запись заставляет задуматься и над тем, а не могла ли Ольга осуществить свой вояж в Константинополь именно в составе названного посольства?
И вот тут, в поисках ответа на вопрос о дате поездки княгини в Византию и причинах такой поездки, приходит еще одна интересная мысль, а что если и крещение княгини, и поездка посольства состоялись не только в один и тот же 943 год, но даже в одно и то же время? И даже более того, это было одно и то же посольство!
Но и это еще не все! Имеются все основания считать нахождение Ольги в составе посольства не как праздный вояж с целью ознакомления с достопримечательностями Константинополя, а именно как участие в нем на правах члена посольства.
А почему бы и нет! Если смотреть на это с точки зрения рациональности, то это самый оптимальный шаг: и расходов меньше (а после войны лишние средства вряд ли были). И безопаснее.
Остановившись на выводе о том, что Ольга была полноправным членом русского посольства, мы получаем не только возможность подтвердить датировку поездки Ольги в Константинополь (это конец весны – начало лета 943 года), но и подтвердить, тем самым, правильность выдвинутой версии о развитии событий на Руси в 941–943 годах.
В связи с этим стоит обратить внимание и на сообщение Константина Багрянородного о том, что в составе свиты Ольги было 2 переводчика, 22 посла и 44 купца. Поражает то, что количество свиты Ольги полностью соответствует количеству послов, представленных в посольстве Руси. Несмотря на то, что событие, сохранившееся в «Повести временных лет» и в котором сообщается о поездке Ольги в Константинополь и принятие ею там крещения, и событие, сохранившееся в источнике «Об управлении империи» совершенно разные, следует предположить, что часть информации именно из последнего источника, каким-то образом попала в «Повесть временных лет».
Статус превыше всего. Остановившись на точке зрения об Ольге как на участнице посольства, имевшей в нем не меньший статус нежели все остальные его участники, самое время затронуть вопрос об ее статусе в этом самом посольстве.
Поскольку император Роман беседовал именно с ней, то можно сказать о том, что переговоры проходили на высшем уровне (глава государства вел переговоры непосредственно с главой другого государства). На этом основании, не будет преувеличением назвать Ольгу главой посольства.
Более того, и императором Ольга должна была восприниматься не только в качестве главы посольства, но, прежде всего, и в качестве главы государства. Ну, в самом деле, не мог же император опуститься до уровня посла, пусть даже и самого красивого в мире: статус – превыше всего! Равный всегда разговаривает с равным. Более того, столь высокий уровень указывает на то, что переговоры касались наивысших интересов государств.
Поиски причин поездки в Константинополь (Мотивация). И все-таки, если наши рассуждения верны и Ольга была главой посольства, то непонятно почему именно она им и оказалась? Неужели на эту роль не нашлось толкового мужика, способного возглавить посольство?
Скорее всего, такой нашелся бы, но видимо, на Руси понимали, что требования русов к ромеям не настолько убедительны и правомерны, чтобы требовать от Византии их выполнения. То есть, аргументация слаба и для этого следует действовать больше при помощи каких-то соблазнов и лести, нежели при помощи жестких аргументов. А раз так, то в ходе переговоров придется больше хитрить, напускать туману и чаще пускать пыль в глаза, а попросту говоря, обманывать. Кто с такой ролью может справиться лучше, чем женщина?
В качестве подтверждения правоты высказанного, следует обратить внимание на описание событий, приведенных в тексте летописи: «И видел ее добру (красиву – А. Л.) лицом, и сообразительну очень, и удивился царь разуму ее, беседуя с ней сказал: достойна царствовать в городе этом с нами»[258]. Если перефразировать написанное в летописи, то слова императора можно передать и так: «Ох, и хитра! Ох, и изворотлива! Льстит, как скатерть стелет! Наблюдательна, находчива! Если б такая была среди нас ромеев, то, наверное, Империя и горя не знала б».
Да, бог с ней с Империей! Но на Руси-то хитрее, изворотливей и умней чем Ольга, тоже никого не нашлось!
Цель посольства. Принимая в качестве основы утверждение о том, что в 943 году в Константинополе было одно единственное посольство из Руси в Византию, в котором Ольга принимала самое непосредственное участие, мы получаем возможность назвать и причину, заставившую именно Ольгу отправиться в столь далекий путь.
Целью поездки княгини в Константинополь можно назвать что угодно, но только не крещение, да, кстати, ни в одном из первоисточников об этом и не сообщается. О том, что крещение состоялось – да, об этом повествуется, а вот о том, что оно было целью поездки – нет.
Внимание тут следует обратить вот на что. Как известно между Ольгой и Романом I, перед тем как княгиней было принято крещение, происходила беседа. Если люди разговаривают на ту или иную тему: о погоде, о небесах, о звездах, и где отсутствуют какие-либо договоренности на будущее, то такой разговор можно назвать и беседой. Но, как только люди начинают о чем-то договариваться, пытаясь при этом устранить проблемы, стоящие перед ними, то такой разговор принято называть переговорами. Наивно было бы предполагать, что Ольга проделала столь далекий путь только ради того, чтобы переброситься с императором парой фраз о погоде. Получается, что между Ольгой и Романом I шли серьезные и напряженные переговоры, во время которых ни одна из сторон не желала поступаться своими интересами ни на йоту? О чем именно шли переговоры, мы уже упоминали: решался вопрос о выдаче на Русь беглых древлян.
Ромеев можно понять! Ситуация у них была не из легких. Византия в ту пору, была фактически, с трех сторон, зажата врагами: с востока – арабами, с моря – маврами и берберами. Даже с болгарами дела обстояли не лучше. Положеньице было – не позавидуешь. В такой ситуации Византия должна была постоянно нуждаться в воинах. Появление в Империи древлян, бежавших из Руси, должно было быть воспринято в качестве спасательного круга. Древлян, крестив и подучив военному делу можно было бы с успехом использовать в войнах, как против мусульман, так и против Болгарии. С их помощью можно было спасти положение на фронтах.
Древляне же, лишившись Родины и найдя единственное пристанище в Византии, могли стать надежной опорой трона, ибо единственной ниточкой связывающей их с этой страной был император.
Русам же было важным не столько получение беглецов для расправы, сколько необходимость показать всем проживавшим на Руси, кто в доме хозяин и что бывает с мятежниками, выступившими против хозяина.
Таким образом, согласись император на требования русов (Ольги) о выдаче беглецов (древлян), тем самым, не только подтверждал взятые на себя Империей обязательства, зафиксированные в договоре 941 года, но и должен был распрощаться с мечтой на улучшение положения Империи на фронтах. Более того, идя на удовлетворение требований русов, император демонстрировал слабость Империи.
Легко ли было императору Роману пойти на такой шаг? Вряд ли! Стало быть, для того, чтобы не вступать в противоречие с пунктами договора, Константинополь обязан был найти не только оправдание своим действиям, но и доказать несостоятельность домогательств к себе со стороны Руси.
Гордиев узел. Ольга прекрасно была ознакомлена с ситуацией в Империи и причинами, по которым император Роман стоял на своем и отказывался признать требования русов. По этой причине Ольга, в обмен на беглецов из Древлянской земли, предлагала Роману компенсировать утерю предоставлением Русью военной и финансовой помощью: «Это же Ольга пришла к Киеву, и как рассказывают, прислал к ней царь Греческий, говоря: «Как много одаривал тебя; ты же говорила мне, как только возвращусь в Русь, много даров пошлю тебе, челядь и воск и меха, и воинов много в помощь»[259].
Но император был неумолим. С одной стороны, лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе, а с другой, выдавая беглецов Руси, император закрывал в империю путь всякому, для кого существовала угроза на родине. Если попробовать выразить ответ императора одной фразой, то она могла бы звучать примерно так: «С Дона выдачи нет»!
Вместе с тем, после того как предложения о компенсации потерь прозвучали из уст Ольги, она не могла не заметить колебаний императора. То есть, она попала в точку. Но для того, чтобы император, все-таки согласился на сделанное предложение, императору следовало показать вишенку на торте. Такой вишенкой оказалась фраза о крещении: «Уж не желаешь ли ты меня крестить»?
В общем, Ольга оказалась еще той интриганкой! Не могла Ольга не знать и о том, как в свое время крестился в Болгарии Аскольд, чьим крестным отцом был никто иной, как папа римский Николай I.
Кроме того, поведение императора нельзя объяснить ничем иным, кроме как проявлением эмоций, а слова, сказанные императором по поводу царствования, были назвать ни чем иным, комплиментом, сделанным Ольге, и не более того.
А вот то, что Ольгой, неосторожно брошенная императором фраза, была умело использовала в переговорах – это факт!
Расчет, сделанный княгиней, в чем-то даже оправдался. В Константинополе должны были прийти к выводу о том, что раз крестится первое лицо государства (откуда в Империи могли знать, что это не так?), то вслед за этим могло последовать и крещение остальных русов. А раз так, то, глядишь, не далеко и то время, когда вся страна станет христианской, а это, в свою очередь, будет способствовать сближению государств, которое будет происходить как посредством религии, так и культуры. В результате Русь могла стать, если не союзницей Византии, то хотя бы, по отношению к ней, нейтральным государством, что порой бывает так необходимо при решении некоторых вопросов внешней политики. Ради такой перспективы можно было и древлянами пожертвовать! Обмен для Византии выглядел не только равноценным, но даже и выгодным.
После переговоров. Итог переговоров таков: Византия подтвердила условия договора 941 года со всеми вытекающими из него последствиями и, значит, обязана была выдать в руки Руси беглецов. Но не выдала. Не могла Империя потерять лицо! Не могла!
Древляне, узнав об этом, вынуждены были уйти из Империи. Единственным местом, куда они могли направиться, был Восток – Хазария.
О набеге на Бердаа сохранились сведения не только в арабских источниках, но и в армянской литературе. «В то же время с севера грянул народ дикий и чуждый – Рузики; не более как в три раза они подобно вихрю распространились по всему Каспийскому морю до столицы Агванской, Партава. Не было возможности сопротивляться им. Они предали город лезвию меча и завладели всем имуществом жителей. Тот же Салар осадил их, но не мог нанести им никакого вреда, ибо они были непобедимы силой. Женщины города, прибегнув к коварству, стали отравлять Русов; но те, узнав об этой измене, безжалостно истребили женщин и детей их, и пробыв в городе 6 месяцев, совершенно опустошили его. Остальные, подобно трусам, отправились в страну свою с несметной добычей»[260].
Не смотря на крещение княгини Ольги, Русь древлян не получила и, несолоно хлебавши, возвратилась домой. О том, что Ольга и посольство выдачи древлян не добились, повествует «Повесть временных лет», правда в несколько завуалированной форме: «Это же Ольга пришла к Киеву, и как рассказывают, прислал к ней царь Греческий, говоря: «Как много одаривал тебя; ты же говорила мне, как только возвращусь в Русь, много даров пошлю тебе, челядь и воск и меха, и воинов много в помощь». Отвечает же Ольга послам: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда тебе и дам»[261]. Раздраженный тон с послами – это лучшее подтверждение неудовлетворенностью такими переговорами.
Вместе с тем, Русь, все-таки, всем своим подданным дала понять: руки у нее намного длиннее, нежели кажется, и, в случае необходимости, могут дотянуться даже до тех земель, на которые ее власть уже и не распространяется.
После Константинополя. Для того чтобы поставить точку в вопросе об Ольге прокомментируем сообщение Иакова Мниха о том, что: "По святем крещении си блаженая княгини Ольга живе лет 15 и угодив богу добрыми делами своими, и успе месяца июля в 11 день в лето 6477(969 г.)"[262]. Учитывая то, что мы имеем дело с переводом, у нас нет возможности достаточно четко и точно прокомментировать указанную запись, ибо не совсем понятно, идет ли в данном отрывке речь только о княгине Ольге или же еще о ком-то? В связи с этим появляется мысль о наличии ошибки (или в переводе, или в первоисточнике). Оставим пока все так, как есть и попытаемся сопоставить текст перевода сообщения Иакова Мниха с материалом, написанным нами.
То есть, если мы забудем о дате 969 года, то картина, получаемая в результате прочтения сообщения Иакова Мниха, будет выглядеть следующим образом: если к дате вторичного крещения, то есть, к 943 году, прибавить все те же 15 лет, о которых и повествует Яков Мних, мы получим 958 год.
Что смущает в этой дате? А то, что она, по каким-то причинам, близка к дате приема русской княгини, описанного Константином Багрянородным – к году 957 (18 октября в воскресение). Учитывая то, что новый год в то время начинался с 1 сентября, можно допустить, что и в данном случае ошибки никакой нет – 958 год может быть именно 957 годом. Таким образом, мы имеем два сообщения: одно о смерти княгини, а второе о приеме в Константинополе, относящиеся (приходящиеся) на один и тот же год. Так может попытаться объединить и эти два события воедино?
Но в таком случае, напрашивается еще один вопрос, а о какой смерти идет речь, если годом смерти Ольги принято считать год 969? Но тут самое время вспомнить о том, что у Игоря была не одна, а три жены (а то и больше), а заодно и о возрастах жен на момент смерти – это 75 и 80 лет, или даже 88.
С первой женой все понятно: родилась в 881 году в Изборске, умерла в 942 в возрасте 61 года, девичье имя – Прекраса.
С третьей женой тоже все понятно: родилась в 894 году в Плиске (Болгария), умерла в 969 году в возрасте 75 лет, девичье имя – Елена.
Но, тут у нас появляется возможность кое-что сказать и о второй жене Игоря – Предславе. Нами установлено, что эта Ольга была уроженкой Пскова (деревня Выбуты), свадьба которой с Игорем состоялась в 903 году. Вот о ней-то и может идти речь. Если она прожила 80 лет и умерла в 957/958 году, то получается, что родилась она в 878 году и была, по сути, ровесницей Игоря.
Вопрос о четвертой жене Игоря, которая прожила на этом свете 88 лет, мы упускаем из-за отсутствия информации.
В результате и в этом вопросе кое-что проясняется. Остается только лишь дать пояснения по поводу того, как появились даты 958 и 969 годов. Это следует объяснять тем, что, княгини, жившие в одно и то же время, носили не имена, а титулы, которые спустя несколько столетий всеми уже воспринимались в качестве имен. А летописцам, писавшим тексты, не знавшим всех подробностей событий, не трудно было и запутаться в информации.
Следует учесть и то, что Иаков Мних писал обо всем этом уже после смерти княгинь, не зная ни одной из них лично и, уж тем более, видимо, ничего не знал о первой жене Игоря. Нельзя исключать и того, что Иаков Мних для написания своего сочинения пользовался каким-то первоисточником и, возможно, что даже не одним, в связи с чем, и мог перепутать, что о ком писалось, о какой именно Ольге шла речь в том или ином источнике. С учетом всего сказанного, немного видоизменим перевод записи сделанной Иаковом Мнихом: "После святого крещения блаженной княгини Елены – Ольга живет лет 15 и угодив богу добрыми делами своими и умирает месяца июля в 11 день в лето 6466 (958 г.)". Получается, что и у Иакова Мниха речь тоже идет о нескольких женщинах, хотя и писал он лишь об одной из них; о святой равноапостольной Русской православной церкви Ольге-Елене.
Причина смены имен. Вместе с тем, вопрос о княгине Ольге нельзя считать закрытым, не дав ответа еще на один вопрос: как могло получиться, что княжна Елена стала Ольгой («а Олег поименова [переименовал] ю и нарече во свое имя Ольга»[263])? Можно, конечно же, это объяснить тем, что имена Елена и Ольга, для русича могли быть созвучны и поэтому прижились в таком соотношении. Но с другой стороны не стоит забывать и о политических вопросах. Тому же Олегу, было важно расставить приоритеты внутри общества Руской Земли и привязать отдельные родовые группы населения (род Гостомысла, болгар, русов) к существующей на Руси власти, к княжескому роду и продемонстрировать идею их единства в пределах Руской Земли. По этой причине все жены Игоря и получали титул Наследницы – Ольги, то есть, наследница власти словен, наследница власти русов, наследница власти болгар.
238
Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник, 1990. – С.92.
239
Константи́н VII Багряноро́дный (Порфироро́дный, Порфироге́нет, др. – греч. Κωνσταντῖνος Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος; 17/18 мая 905, Константинополь – 9 ноября 959, Константинополь) – византийский император из Македонской династии, номинально царствовал с 913, фактически – с 945 года.
240
Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников//Византийский временник, том 42.
241
Рапов О.М. Русская церковь в 9-первой трети 12 века. – М.: ВШ. 1988. – С.163.
242
Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников//Византийский временник, том 42.
243
Перевод данного издания см. Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М. С.103.-Т.1, 4.1.
244
Рома́н I Лакапи́н (Рома́н Лекапе́н; ок. 870 – 15 июня 948) – византийский император с 920 по 944 год. Роман I Лакапин пал жертвой заговора в собственной семье. Его сыновья Стефан и Константин, может быть с ведома и одобрения Константина VII, восстали против отца, арестовали его 16 декабря 944 года и сослали в монастырь на остров Проти, один из Принцевых, где он и умер в 948 году.
245
Рома́н II Мла́дший (938 – 15 марта 963) – византийский император с 9 ноября 959 по 15 марта 963 года, сын Константина VII.
246
Иоа́нн Скили́ца – византийский чиновник, хронист XI – начала XII вв., в 1081—1118 был сановником Алексея Комнина. Центральной его работой была «Обозрение истории», охватывающая период со смерти Никифора I в 811 году до свержения Михаила VI в 1057 и продолжающая летопись Феофана Исповедника. Существует продолжение «Обозрения истории», доведённое до 1079, часто также приписываемое Скилице. Иоанн Скилица//Большая советская энциклопедия: [в 30 т. ]/ гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
247
Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников//Византийский временник, том 42.
248
Иа́ков Чернори́зец (Мних Иаков) – древнерусский монах, мыслитель и писатель XI века; автор ряда произведений и панегириков. Произведения, приписываемые Иакову, имеют важное значение как источник по начальной истории русской церкви. См. Иаков Черноризец//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т – СПб., 1890–1907.
249
Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории древней Руси. – С.229.
250
3 июня – день ангела Елены.
251
Перевод данного издания см. Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М. С.103. Т.1, 4.1.
252
Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников//Византийский временник, том 42.
253
Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник, 1990. – С.92.
254
Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник, 1990. – С.92.
255
"Иде Олга к Новугороду и устави по Мъсте погосты и дань, и по Лузе погосты и дань и оброкы: и ловища ея суть по всей земле, и знамения, и места и погосты". См. Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник, 1990. – С.92.
256
Константин Багрянородный. Об управлении империей/Под редакцией Г.Г. Литаврина и А.П.Новосельцева. – М.: 1989. http://oldru.narod.ru/text.htm file://E:\kb
257
"В лето 6451. Пакы приидоша на Царьградъ, и миръ створивше с Романомъ, възвратишася въсвояси". См. Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник, 1990. – С.66.
258
"И видевъ ю добру сущу лицемъ и смыслену велми, и удивися царь разуму ея беседова к ней и рекъ ей: "подобна еси царствовати в городе семъ с нами." Она же разумевши, и рече къ царю: "азъ погана есмь, да аще меня хощещи крестити, то крести мя самъ: аще ли, то не крещуся". См. Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник, 1990. – С.92.
259
«Си же Ольга приде къ Киеву, и якоже рькохомъ, и присла к ней царь Грецкый, глаголя: «яко много дарихъ тя; ты же глаголала ми, яко аще възращаюся в Русь, многы дары послю ти, челядь и воскъ и скору, и воя многы в помощь». Отвещавши же Олга рече къ посламъ: «аще ты», рци, «такоже постоиши у мене в Почайне, якоже азъ в Суду, то тогда ти вдамъ». См. Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник. – 1990. – С.96, 98.
260
Моисей Каганкатваци о походе русов на Бердаа в 943 году.
261
«Си же Ольга приде къ Киеву, и якоже рькохомъ, и присла к ней царь Грецкый, глаголя: «яко много дарихъ тя; ты же глаголала ми, яко аще възращаюся в Русь, многы дары послю ти, челядь и воскъ и скору, и воя многы в помощь». Отвещавши же Олга рече къ посламъ: «аще ты», рци, «такоже постоиши у мене в Почайне, якоже азъ в Суду, то тогда ти вдамъ». См. Повесть временных лет. – К.: Радянський письменник. – 1990. – С.96, 98.
262
Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории древней Руси. – С.229.
263
Иоакимовская летопись, История Иоакима – условное название выдержек из старой рукописи, опубликованных русским историком XVIII века В.Н. Татищевым в «История Российская» (1-й том, 4-я гл. в).