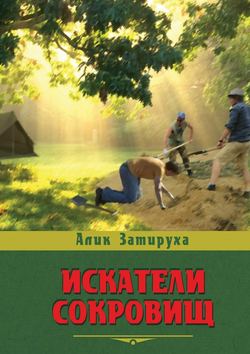Читать книгу Искатели сокровищ - Алик Затируха - Страница 10
Золотая полянка
Глава VIII. «Разное»
ОглавлениеВ кабинет редактора «Мытищинского комсомольца» решительно входит солидный мужчина, брезгливо бросает на редакторский стол недавний номер газеты и возмущенно спрашивает:
– Что это, товарищ Уткин, вы себе позволяете?
У редактора «Комсомольца» не впервые требуют сатисфакции. Он спокойно раскрывает газету и просматривает возмутивший посетителя материал.
– И что же вас так задело, товарищ Колосов?
– Вы что, сами не видите, что меня задело? «Не надо обладать каким-то обостренным обонянием, чтобы почувствовать: в хозяйстве товарища Колосова с некоторых пор попахивает неблаговидными делишками…» – наизусть цитирует задевший его пассаж товарищ Колосов. – Кто вам, товарищ Уткин, позволил нюхать – чем у меня в хозяйстве попахивает?
– Работа у нас такая, товарищ Колосов, – принюхиваться, где чем попахивает.
– Принюхивайтесь по комсомольской линии. А у меня комсомольской организации нет! – товарищ Колосов сказал это так, как будто он намеренно не заводил в своем хозяйстве комсомольскую организацию – чтобы шустрилы из «Мытищинского комсомольца» никогда к нему не заглядывали. – Вот и не суйте свои носы туда, куда вам не положено их совать. Чтобы не прищемили их вам.
– Только туда и суем, куда еще можно, – заверил его Уткин. – Нам, товарищ Колосов, дороги наши носы. Ведь это – профессиональные органы журналистов.
Товарищ Колосов и сам понимал, что его упреки в рискованном обращении с профессиональными органами в «Комсомольце» едва ли состоятельны. Его место под мытищинским солнцем в редакции знают, пожалуй, даже вернее его самого. Как и положение всех других сколько-нибудь заметных городских фигур. Да, журналисты «Комсомольца» частенько ходили по кромке дозволенного, но за нее старались не заступать; дразнили иногда тех, кого дразнить не принято, но только тех из них, кого еще все-таки можно подразнить; печатали порой то, за что по головке не погладят, но только то, за что из журналистики турнут едва ли.
Пофыркав для приличия еще немного, товарищ Колосов уже не так сердито говорит:
– Обнюхивайте, пожалуйста, тех, товарищ Уткин, кого положено обнюхивать комсомольской печати.
– А вы, товарищ Колосов, пожалуйста, не пахните, и никто тогда вас не будет обнюхивать, – спокойно возражает Уткин, уверенный что за это несанкционированное обнюхивание товарища Колосова его никто серьезно не взгреет. Да и как иначе поддерживать репутацию возмутителей спокойствия, если время от времени не нарушать писанные и неписанные запреты.
В это время требовательно зазвонил телефон. Редактора срочно вызывали на совещание в горком партии. Они вместе вышли из редакторского кабинета, на ходу завершая дискуссию о мере дозволенного комсомольской печати: «…Вы, пожалуйста, не нюхайте». – «А вы, пожалуйста, не пахните…»
К приходу Уткина на совещание там уже перешли к «Разному». Свое выступление заканчивал городской санитарный врач.
– … В бассейнах Рейна и Миссисипи даже в их худшие времена техногенное загрязнение едва ли достигало наших сегодняшних значений. Так, содержание тяжелых солей металлов и мышьяковистых соединений превышает у нас предельно допустимые концентрации в десятки раз. И смог наш тоже погуще ихнего будет. К примеру, сернистого ангидрида в нашем, если его так можно назвать, воздухе…
– Стоп-стоп, Валерий Петрович! Довольно твоих страшилок, – перебил санитарного врача секретарь горкома партии Захар Михайлович Курьянов. – Дай тебе волю – уж ты отыщешь всякой заразы…
Секретарь говорил таким тоном, будто Валерий Петрович сам тайком подмешивал в мытищинские поверхностные воды мышьяковистые соединения, напускал ночами в городскую атмосферу сернистого ангидрида, а потом громче всех кричал: «Караул!»
– … И почему надо обязательно кивать на Рейн и Миссисипи? Почему не взять для сравнения Баргузин или Сырдарью?
– Сведения об экологических проблемах Сырдарьи и Баргузина носят закрытый характер! – с вызовом ответил Валерий Петрович.
– Я их не закрывал, – недовольно сказал Захар Михайлович. – Все, спасибо. Не будем раньше других противогазы надевать.
Покончив с недолгим обсуждением экологических проблем, секретарь горкома снова заглянул в «Разное»:
– Так, следующий пункт – дело товарища Быстрых. Пожалуйста, кто у нас докладчик по этому вопросу.
На трибуну поднялся начальник городского спорткомитета.
– Дело, товарищи, вкратце, вот в чем. В Москве вдруг решили проверить, как сдавались у нас нормы ГТО на самом деле? Нет ли в нашей отчетности… э-ээ…
– Вранья, – подсказал Захар Михайлович.
– Вот-вот, – угодливо улыбнулся начальник спорткомитета. – Проверять будут протоколы Научно-исследовательского института искусственного волокна. Методом тыка выбрали в этих протоколах пять человек и строго предупредили нас, чтобы те не улизнули куда-нибудь во время проверки. Через неделю комиссия из центра на стадионе будет сличать их действительные результаты в беговых и прыжковых дисциплинах с протокольными… Четверо из них… Очень сомневаюсь, что и они подтвердят те результаты, которые им поставил в протоколах Уханов. Ну да это ладно, это еще можно будет как-то объяснять. Но вот результаты товарища Быстрых…
– Что, с ними Уханов особенно переврал? – строго спросил Захар Михайлович. – А почему вы его не контролируете?
– Сколько уж раз его предупреждал: «Уханов, не можешь приписывать – не берись!» – оправдывался и попутно объяснял, почему он занимает в спорте более высокое положение, чем Уханов, начальник городского спорткомитета. – Берет платежные ведомости предприятия или учреждения, переписывает оттуда фамилии и ставит напротив каждой результат, как говорится, от фонаря…
Кто-то из присутствующих на совещании предложил:
– А если товарища Быстрых на эту неделю освободить от работы, потренировать как следует, – может быть, он тогда и подтвердит свои протокольные результаты?
– И тогда не подтвердит, – глухо и печально сказал начальник спорткомитета. – К сожалению, у товарища Быстрых… Тут такое дело – у товарища Быстрых нет одной нижней конечности. А вторую, как вы понимаете, тренируй – не тренируй… Уханов в прыжках в длину с разбега поставил ему в протоколе пять метров двадцать сантиметров. Тут и на двух-то ногах не каждый на такой результат разбежится…
После общей молчаливой паузы соболезнования – то ли товарищу Быстрых, то ли Мытищам, которые он так подвел потерей одной из своих нижних конечностей, – кто-то из товарищей в президиуме, насупившись, спросил:
– Ну и какими неприятностями грозит нам грядущее разоблачение?
– Возможно аннулирование не только институтских протоколов, но и всей городской отчетности по ГТО, – с понятной грустью ответил начальник спорткомитета. – Оргвыводы. Наверное, и фельетон в центральной прессе не заставит себя ждать – вон какая благодатная тема для зубоскалов…
По утомленному лицу Захара Михайловича можно было догадаться, что комплекс ГТО, как и многое-многое другое, придуман праздными умами только для того, чтобы прибавить седин с морщинами и без того перегруженным сверх всякой меры руководящим партийным работникам; что Уханов – ленивая свинья, пригревшаяся на тепленьком местечке; что начальник городского спорткомитета – трусливый прохиндей, готовый утопить любого, лишь бы самому остаться на плаву; что фельетон в центральной прессе куда неприятней аннулирования, потери, сожжения или утопления всей и за все времена городской спортотчетности, включая дырявые мишени первых «ворошиловских стрелков» Мытищ.
– Заведующая горздравом здесь? – оглядел он присутствующих и, не найдя ее, наклонился к помощнику: «Надо обеспечить товарища Быстрых справкой о потере им ноги уже после сдачи норм ГТО».
Проводив уходящего с трибуны начальника спорткомитета тяжелым взглядом, Захар Михайлович посмотрел в программку «Разного» и объявил:
– А теперь перед нами выступит товарищ Тарасов. Вопрос, который он затрагивает, – вопрос очень и очень деликатный. Тем правильней поступает товарищ Тарасов, решив посоветоваться с нами. Человек он по-хорошему беспокойный, ищущий. Как принято говорить в таких случаях – генератор идей. Имеет несколько рационализаторских разработок. Товарищ Тарасов, какие из них получили наиболее широкую известность?
– Пожалуй, наиболее широкую известность получила конструкция антивандального металлического забора для учебных заведений. Его чертежи были опубликованы в журнале «Моделист-конструктор».
– Напомните нам – кем вы работаете?
– Я преподаю в ПТУ слесарное дело и электродуговую сварку металлов.
– Хорошо, мы внимательно слушаем вас, товарищ Тарасов.
Генератор идей сразу перешёл к делу и показал рукой на двух ближе всех сидящих к нему участников совещания:
– Вот, скажем, вы, товарищи: допустим, вы – узбек и вы – узбек. Но вот у вас, – он все так же доброжелательно указал на одного из них, – у вас все предки до седьмого колена – сплошь одни узбеки. А вот у вас… – он показал на второго с несколько сочувствующим тому видом. – У вас и мама, и папа – узбеки только частично. Спрашивается: одинаковые ли вы узбеки?
Сделав паузу, чтобы аудитория и сами «узбеки» пришли к очевидному выводу, преподаватель слесарного дела продолжал:
– А в какой степени разные? Можно ли подобрать объективный количественный показатель, характеризующий эту разность? Оказывается, можно.
Я назвал этот показатель «коэффициентом полноты национальности». Формула для его определения следующая. Доля в процентах искомой национальности в крови одного супруга складывается с таковой же в крови другого, и сумма делится на два. Это и будет коэффициент полноты данной национальности для их детей.
Вернемся к нашему примеру, – он уже по-хозяйски показал рукой на «узбека», у которого все предки блюли чистоту узбекской крови. – Коэффициент полноты узбекской национальности у вашей мамы, как мы уже знаем, – 100 процентов. У папы – тоже. Складываем сто и сто, делим на два – получаем, что и ваш коэффициент равен ста процентам… А вот у вас… – Тарасов с огорчением посмотрел на второго взятого им для примера товарища. – Пусть у вашей мамы коэффициент полноты узбекской национальности был 80 процентов, а у папы – 40. Что получим для вас? 80 плюс 40, делим на два – получаем только 60 процентов.
Тарасов развел руками: ничего, мол, брат тут не попишешь – арифметика.
Оба «узбека» прятали глаза и беспокойно ерзали на своих местах. Так бывает со зрителями, которых выбирают для своих проделок третьеразрядные эстрадные юмористы: несчастные не знают, то ли им вымученно смеяться, то ли поддаться более естественному чувству – снять с ноги ботинок и запустить им в глумливую физиономию обидчика.
– А для чего нам нужны все эти цифры, спросите вы? – возвысил голос преподаватель электродуговой сварки металлов. – А вот для чего. Я предлагаю установить для паспортной графы «национальность» четыре категории – по мере убывания коэффициента национальной полноты. Первая категория – лица с полной заявленной национальностью. Необходимый коэффициент полноты для первой категории – свыше 90 процентов. Вторая категория – лица с неполной национальностью. Коэффициент – от 50 до 90. Третья – лица с сомнительной национальностью. Коэффициент – от 15 до 50. И, наконец, четвертая категория – лица с утраченной заявленной национальностью. Коэффициент ее полноты – менее 15 процентов.
Прошу внимания, товарищи! – рационализатор перешел к основной части своего выступления. – В чем я вижу целесообразность такого нововведения? А вот в чем. Не секрет, что в силу различных причин отношение к разным национальностям в обществе разное. Поэтому понятно стремление некоторых родителей правдами и неправдами записать для своих детей в графе «национальность» более, если так можно сказать, престижную. Пусть даже в крови обоих супругов ее осталось всего ничего. Как быть? Отнять у людей такую возможность? Гуманно ли это будет? С другой стороны, и полный произвол в этом вопросе тоже, наверное, недопустим. Вот это противоречие, товарищи, я и пытаюсь снять своим предложением.
Тарасов с жадностью отпил из стакана глоток воды и продолжил:
– У вас, – он показал рукой на «неполноценного узбека», – у вас, как мы установили, коэффициент полноты узбекской национальности – 60 процентов. А вот, например, эстонской – только 20. Но, предположим, вашим родителям приспичило записать вас не узбеком, а эстонцем. Пожалуйста. Но тогда вместо «неполной» узбекской национальности, что соответствует второй категории, у вас будет «сомнительная» эстонская – третья категория… Сделаем ваш пример еще более показательным, – воткнул палец во все того же великомученика Тарасов. – Пусть узбекский коэффициент у вас – за 90, эстонский – всего полтора процента, а ваши родители с упрямством, достойным лучшего применения, желают записать вас все-таки эстонцем. Аллах с ними, пусть записывают. Но тогда, извините, вы уже будете проходить только по четвертой, последней категории – лицо с «утраченной» эстонской национальностью. Вместо того, чтобы быть «полным» узбеком.
– Зачем же они тогда записывают его эстонцем? – участливо кивнул на «лицо с утраченной эстонской национальностью» секретарь горкома партии. – Это что же, и дети его, и внуки так и будут прозябать в последней категории?
– Отнюдь не значит! Отнюдь! – радостный от того, что его рацпредложение не создает безвыходных ситуаций, отрапортовал горкому партии Тарасов. – Пусть у взятого нами для примера товарища будет только полтора эстонских процента. Положение для его потомства вовсе не безнадежное, как может показаться на первый взгляд. А что, если он женится на девушке, у которой эстонский коэффициент близок к 100 процентам? Вероятно, его родители и будут рассчитывать на это, – Тарасов уже совсем бесцеремонно копался в семейном белье мини-эстонца. – Тогда уже дети этой пары могут быть лицами «неполной» эстонской национальности. А если такая тенденция в подборе брачных партнеров сохранится в этой семье и дальше, то, как нетрудно подсчитать, в четвертом поколении некоторые ее члены будут состоять уже в первой категории национальной полноты – полной эстонской.
Но даже этот счастливый прибыток у эстонской нации не вызвал у собравшихся симпатий к рацпредложению преподавателя слесарного дела. По неприязненным взглядам на него можно было догадаться, что с национальными коэффициентами у некоторых присутствующих была или полная неразбериха, или, какой бы из них они не выбрали, а выше «сомнительной» категории им не подняться.
Раздались неодобрительные смешки и шикания. Взглянув на обоих «узбеков», можно было предположить, что они уже что-то злоумышляют против докладчика. Причем, как ни странно, больше кипятился как раз тот из них, кому генератор идей давал в своих примерах более полную узбекскую категорию.
Захар Михайлович не мог не почувствовать настроение собравшихся.
– М-да, предложение, конечно, интересное. Какие-то частные, я бы сказал, процедурные вопросы оно, возможно, и помогло бы решить. Но!.. – секретарь горкома многозначительно поднял палец в потолок. – Но сам национальный вопрос и эта формула, увы-увы, окончательно не снимет. Более того, это такой болезненный вопрос, который зачастую обостряется еще больше, когда его пытаются в очередной раз окончательно решить. Не думаю, что наша парторганизация вправе взять на себя такую ответственность… И все-таки давайте поблагодарим товарища Тарасова – за его беспокойное сердце настоящего партийца, за его пытливый ум! – Захар Михайлович первый хлопнул в ладоши.
– Здесь мы намерены были с повесткой дня закругляться, – сказал он после жидких аплодисментов. – Но прочитал я тут… Редактор нашего бравого «Комсомольца» здесь? Уткин пришел?.. Вот и хорошо, поправите меня, товарищ Уткин, если какое-то мудреное словцо не смогу выговорить. Прошу, товарищи, задержаться еще минут на пять. Не могу устоять от соблазна прочитать вам вот этот опус. Называется он – «Таинственная зона». Автор – Виктор Смелый. Послушайте, пожалуйста:
«… Ловлю себя на мысли, что сильно волнуюсь. А ведь ничего особенного, на первый взгляд, в этом месте нет. Полянка как полянка. И все-таки… И все-таки с первых шагов по ней не покидает ощущение, что какая-то таинственная аура плотно обволакивает меня, стреножит мысли, делает ватными чувства…
Вот бежит навстречу мне пес. Что за фантастическая порода! Сразу вспоминается все ранее слышанное об аномальных зонах и мутантах, которые эти зоны порождают. А в смышленых глазах этой косматой бестии словно горит насмешка: «Что, боишься, как бы и у тебя здесь хвост не вырос?..»
На поляне меня гостеприимно встретили члены любительской уфологической экспедиции под руководством т. А. Затирухи. Вот что они мне рассказали.
Это всегда как удар, как потрясение! Вдруг как бы ниоткуда над полянкой появляется большой, ярко светящийся аппарат. По словам заведующего аналитическим сектором экспедиции т. М. Рабиновича, формой своей аппарат больше всего похож на сильно приплюснутую юлу. Неспешно покружив над полянкой, «юла» неподвижно зависает в полуметре над ее поверхностью. Члены экспедиции в один голос утверждают, что тогда внутри аппарата можно хорошо различить две сосредоточенно склоненные над каким-то пультом фигуры – мужскую и женскую.
За день до моего прихода сюда, у контактера экспедиции т. В. Тихомирова (контактер – человек, наиболее предрасположенный к мысленному общению с подобного рода гостями нашей планеты) после нескольких неудач состоялся, наконец, непродолжительный сеанс общения с экипажем НЛО. Товарищ Тихомиров, как бы стесняясь своих уникальных способностей, по большей части отмалчивался и уходил от моих вопросов. «Утомился, – сочувственно похлопывал его по широкому плечу т. Рабинович и, обращаясь ко мне, объяснял: – Такие контакты далеко не безвредны для здоровья. Каждая попытка заканчивается для него продолжительным заиканием и куриной слепотой». А когда т. Рабинович назвал эти действия героическим самопожертвованием, т. Тихомиров, окончательно смутившись, вовсе ушел куда-то в лес.
После моих слезных просьб и только для «Мытищинского комсомольца», расшифровку единственного пока контакта с «людьми» НЛО предоставил начальник экспедиции т. Затируха. Вот она, дорогой читатель:
«Контактер: «Откуда вы?» О н и: «Мы – с Большой Гугули». Контактер: «Далеко от Земли до нее?» О н и: «Почти четыре с половиной мегагуга». Контактер: «Как вас зовут?» О н и: «Альгуг и Гугина». Контактер: «Что вы здесь делаете?» О н и: «По заданию Центрального Гугулятора собираем образцы флоры и фауны, делаем экспресс-анализы воды, воздуха, почвы…»
Как предполагает т. Затируха, Центральный Гугулятор – это, вероятно, космический центр Большой Гугули.
Члены уфологической экспедиции берут на таинственной поляне систематические пробы грунта в надежде при последующем их анализе хотя бы частично пролить свет на природу НЛО. И если скептиков не убедят расшифровки героических (и я настаиваю на этом) контактов т. Тихомирова, то от аномального грунта уже никому просто так не отмахнуться.
Признаюсь, шел я туда, мало сомневаясь в том, что НЛО – чистой воды вымысел или добросовестное заблуждение. А уходил…
А уходил я с этой светлой полянки, пристально вглядываясь в голубой небосвод. Вдруг как раз сейчас Альгуг и Гугина приветливо подмигнут мне разноцветными огоньками своей «юлы»…
Скучно ведь жить без чудес, дорогой читатель!»
– Я, товарищ Уткин, все правильно прочитал? С мегагугами не переврал? – обратился Захар Михайлович к редактору «Комсомольца» и, переходя с ироничного тона на серьезный, спросил: – Неужели в этом состоит задача комсомольской печати в наши дни – тиражировать басни каких-то перепившихся до заикания лесных бродяг? Знаю-знаю, что вы скажите, – перебил он желание Уткина объясниться. – Пришлось что-то срочно из номера выбрасывать, а другого готового материала у вас под рукой не оказалось. Но почему у вас под рукой в таких случаях всегда оказывается не опыт правофланговых социалистического соревнования или другой по-настоящему злободневный материал, а гугули разных величин? Ваши Виктор Смелый и Наташа Боевая из кожи вон лезут, чтобы оправдать свои псевдонимы. Вероятно, недалек тот день, когда у вас под рукой не окажется ничего, кроме интервью с Бабой-Ягой или Кощеем Бессмертным… Все! Спасибо, товарищи. До свидания. За работу!