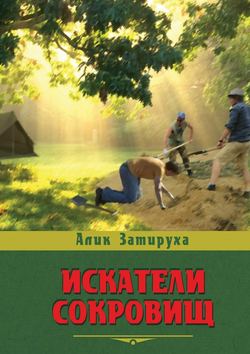Читать книгу Искатели сокровищ - Алик Затируха - Страница 13
Золотая полянка
Глава XI. Тургеневские девушки и негры
ОглавлениеНемало аномального грунта было уже перелопачено, а драгоценный сундук все никак не откапывался.
Чтобы разговорчики о ценности нашей экспедиции для советской уфологии не становились все более пораженческими, я, ее начальник, должен был изобретать для разговорчиков другие темы.
– Комиссар, а где песня? – игриво спрашиваю, облокотившись на черенок своей лопаты. – Ты подобрал народную песню, в которой отражены вековые чаяния простых уфологов-кладоискателей? Запевай, а мы с Моней подхватим.
– «Интернационал», например, – подсказал Васе народную песню Моня.
Васе с утра нездоровилось, нашего с Моней игривого настроения он не поддержал.
– Думаешь, уколол? С «Интернационалом» шли по жизни люди такого калибра, которым некоторые фальшивые завсекторами и в подметки не годятся!
– Спой, Васенька! Спой, светик, не стыдись, – просил «фальшивый завсектором». – Или окромя названия ничего не помнишь?
Живой разговор не должен был усугубить Васино недомогание. Развиваю песенную тему:
– Мы понимаем, Вася, как нелегко тебе будет петь «Интернационал» вот здесь, в глуши, безо всякого музыкального сопровождения, без товарищеской поддержки других певцов-партийцев…
– Без фонограммы… – напомнил Моня о самой главной поддержке всех партийных песнопений.
– Да, Вася, – посочувствовал я, – «фанера» разлагает певцов даже самого крупного калибра. Так ты пропусти то, что подзабыл. Плюнь на рифмы, в них ли дело.
– Можешь даже этот «Интернационал» своими словами пересказать. Прозой… – Моня был и вовсе снисходителен к партийной памяти комиссара. – Интересно будет потом сравнить с оригиналом…
И тут – назло всем подозрениям в исключительно «фанерном» исполнении всеми партийцами своего гимна, несмотря на переувлажненный нос, хрипы и чихи, – Вася вдруг запел. Негромко, фальшивя на каждой ноте, но с чувством:
– Это есть наш последний и решительный бой…
Мы с Моней, взяв лопаты «на караул», подчеркнуто внимательно слушали.
– …Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…
– Моня, не мешай! – предупредил я Монино желание покритиковать Васино пение. – С комиссарскими вокальными данными петь гимны – это подвиг. А признавать и уважать надо даже подвиг политического противника.
– …с Интернационалом воспрянет род людской… – мужественно боролся с тяжеловесной партмелодией Вася.
– Нет, ты, Алик, как знаешь, а я иду доносить, – решительно сказал Моня. – В этом исполнении есть все признаки антисоветской деятельности. Статья 58-я.
– Да, Вася, как это ни печально, а Моня прав, – покачал я головой. – Одно злостное сморкание после каждой строчки чего стоит. Если бы это исполнение слышали товарищи из отдела партпесен ЦК, тебе пришлось бы как минимум выложить на стол свой партийный билет.
– Вы и так ничего не споете, – злостно высморкавшись, прохрипел Вася.
– Да не обижайся ты. Моня, я уверен, раздумает и не донесет на тебя. Мы только сделаем запись в дневнике экспедиции: «Сегодня, будучи не в духе и не совсем здоровым телесно, Вася пел „Интернационал“. Обещал больше никогда-никогда не глумиться над песней, с которой идут по жизни партийцы всех калибров…» Нужна, нужна нам, друзья, торжественная песнь! Как хорошо в минуты усталости и душевного упадка собраться в тесный кружок и спеть пару величественных куплетов… Товарищ худрук, объявите по экспедиции конкурс на «Гимн уфолога». Комиссар участвует только в его поэтической части. Музицирование – не его конек…
К обеду стало ясно, что Васе не до конкурсов.
– Чтобы какая-то жалкая простуда смогла одолеть нашего комиссара – не верю! – старался я умалить возникшую в экспедиции проблему. – Хотя, с другой стороны, атлеты – самый сопливый народ.
– Это он с Большой Гугули при последнем контакте какую-то заразу подцепил, – по-своему хотел посмеяться над той же проблемой Моня. – Перед такой и большевику любого калибра не зазорно спасовать.
Я должен был тут же отреагировать:
– Приказ по экспедиции: «Контактера после каждого сеанса тщательно дезинфицировать и дезактивировать!»
Вася и сам хорохорился:
– После обеда я, ребята, с вашего разрешения полежу. А завтра с утра снова приступлю к исполнению всех своих обязанностей. Включая контактерские.
– Моня, заседание комитета по чрезвычайным ситуациям объявляется открытым. На повестке дня один вопрос – как нам с тобой в самые короткие сроки выходить нашего комиссара?
– Меня в таких случаях соседка, тетя Варя, всегда горячим молоком с медом поит. Потому только, наверное, и жив до сих пор.
Я решил:
– Надо идти в столицу нашей родины. Молоко – раз, мед – два…
– Что-нибудь для дезинфекции и дезактивации – три, – продолжил Моня.
– Не надо никуда идти, ребята, – просил Вася. – И так пройдет все…
– Молчать, больной! А вдруг осложнения? Вдруг в результате их ты утеряешь способность контактировать? Советская уфология никогда не простит нам с Моней такого поворота событий… А если серьезно, то большой поход в Москву назрел. Кто знает, сколько нам еще тут копаться. Надо пополнить запас фуража. У Мони кончаются краски. Батарейки в приемнике садятся. Свежих газеток и журналов хочется почитать. Нужен бензин для «Шмеля». Партизану надо бы хоть запаха мясного привезти, побаловать парня. Большой поход в Москву необходим. Отпустишь, Вася, нас обоих?
Вася посмотрел на Моню:
– Не отстаивать каждые пять минут прогнившую коммунистическую идеологию? Тоска зеленая!
– С тобой остается Партизан, – напомнил я. – Он тоже едва ли сочувствует идеям ВКПб. Верные служаки просто обязаны быть монархистами. Правда, Партизан?
Партизан, смышленая бестия, так выразительно посмотрел на каждого из нас, будто упрекал в самой постановке такого вопроса: «Да как же вы могли усомниться в этом, господа?»
– Ладно уж, забирай Моню с собой, – будто после долгой душевной борьбы согласился Вася. – Береги его. Следи, чтобы он переходил улицы только на зеленый свет светофора и не переедал мороженого.
– Не волнуйся за него, комиссар. Он еще попортит тебе крови.
…Лес уже набрал полную летнюю силу. Ярко зеленели кроны деревьев. В них деловито перекликались разномастные пичуги. Корни могучих стволов темными набухшими венами тут и там пересекали тропинку, по которой мы шли.
– …Завидую я тебе, Моня, светлой завистью! У тебя в Москве есть своя комната. Большая?
– Девять с половиной квадратных метров, – небрежно махнул рукой Моня.
– Мало? Да это же 950 квадратных дециметров!
– Ты еще воскликни, что это 95000 квадратных сантиметров…
– Нет, не воскликну. Квадратный сантиметр – никуда не пригодная жилплощадь. А вот квадратный дециметр – это уже кое-что. Став на цыпочки, убрав живот, перекосив плечи, можно и пожить какое-то время. Если, конечно, черти гостей не принесут… Эх, Моня! Добрая половина моих грез посвящена будущей комнате в какой-нибудь овеянной легендами московской коммуналке. Самое благоустроенное общежитие – все равно не дом.
– Коммуналка – тоже не дом, – от убеждения в этом Моня даже скривился.
– Ты избалован своими жилищными условиями. Ты просто пресыщен обладанием такой прорвы квадратных дециметров. Мне бы такие палаты. Пусть даже без квадратного полуметра… Моя коммуналка будет образцом добрососедства. Во всех ее уголках с утра до вечера будут слышны радостный смех и приглашения зайти в гости. А в одной из четырнадцати комнат нашей дружной квартиры будет проживать Она…
Заметив, как улыбнулся Моня, я погрозил ему пальцем:
– Ты, Моня, не иди в своих намеках сразу так далеко. Это будет тихая девушка с большими чистыми глазами и тугой косой до пояса. Очень добродетельная девушка. Встречаясь на кухне с мужчиной в трусах, она каждый раз падает в обморок. Это будет, так сказать, тургеневская девушка. Наши с ней целомудренные свидания будут проходить под общим электросчетчиком в коридоре. Однажды, осмелев, я тихо спрошу: «Вы помните эти чудесные строки: «И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь…»? А она, еще больше хорошея от смущения, нежным голосом спросит меня: «А вы помните…
– …что сегодня как раз ваша очередь мыть сортир?» – безжалостный Моня внес в поэтическое свидание под электросчетчиком грубую коммунальную прозу.
– Ах, Моня! – укоризненно посмотрел я на него. – Тургеневские девушки и слов-то таких не знают. По определению. Они говорят о кружевах, цветах, картинах, восходах и закатах, новинках советской и зарубежной литературы, о смысле жизни… Мы с ней будем часто ходить в театр на Таганке и потом горячо обсуждать – в каких фрагментах спектакля труппе убедительней всего удалось показать властям кукиш в кармане.
– Как бы ты из своей четырнадцатикомнатной коммуналки не попросился обратно в общежитие, – предсказывал Моня.
– Вот еще! Туда я буду хаживать только для того, чтобы снова и снова рассказывать братьям-лимитчикам – насколько больше житейского счастья может уместиться на одном метре своей площади, чем на метре казенном…
Так, рассуждая с разных позиций о коммунальном житье-бытье, мы дошли до городской окраины. Сели в автобус №31 и доехали до ближайшей станции метро – «ВДНХ». Оттуда – в центр. Отовариваться решили там. Там и Моня жил.
Столица. Мы уже несколько отвыкли от ее кипучей жизни. Вон сколько вокруг этой жизни! Ею переполняются глаза и уши, она мнет бока, наступает на ноги. Она неумолимо втягивает в свое могучее русло и – шевелись! Мало ли что ты отвык в своей уфологической берлоге от такого темпа. Приперся в Москву – поспешай как все. Не зевай, не путайся у других под ногами. Видишь, как торопятся все прожить это мгновение? Не заслоняй его своей неуклюжей фигурой!
…Проспект Калинина. В аптеке взяли лекарства для комиссара. Напротив, в «Юпитере», – батарейки для приемника. В гастрономе «Новоарбатский» накупили провианта для личного состава экспедиции. Раскошелились и на три пакета «мясного супового набора» для Партизана.
– Отварим – запаху Партизану на неделю хватит, – оценивал я собранный из одних лишь подозрительных костей «суповой набор». – А мясо сторожам вредно – от него в сон клонит.
От «Новоарбатского» до Мониного дома – рукой подать. Там он возьмет краски да и просто посмотрит – все ли в порядке на его квадратных дециметрах.
Когда дошли, я взглянул на табличку с названием переулка и присвистнул:
– Вот те на! Нижний Кисловский…
– Ну и что? – спросил Моня.
– Как что! В своем историческом докладе в Моссовете я, разумеется, должен буду требовать переименовать и этот переулок. Например, в Уфологический. А теперь не знаю, как и быть? Эти тротуары исхожены видным советским художником Моисеем Абрамовичем Рабиновичем. Здесь развернулся и мужал его талант… Мемориальные места – ничего не трогать, не менять… И в то же время – Нижний Кисловский. Фи! Хоть бы Верхним, что ли, был… Может, мне назвать его Верховным Кисловским? А, Моня? Или – Кисловско-Акварельным? А Уфологическим мы назовем вот этот, – я показал на соседний, Калашный переулок. – Не пропадать же хорошему названию.
Мы подошли к подъезду, в котором жил Моня.
Я внимательно огляделся.
– В каких чудных московских палестинах ты живешь, Моня! У нас, в Бибиреве, и не пахнет такой вкусной архитектурой.
– Зато у вас, в Бибиреве, все новое, с иголочки. А здесь все внутренности – труха.
– Зато какой ядреный московский дух должен быть у этих внутренностей. Какие ушлые, гораздые на всякие проделки домовые должны здесь обитать… Моня, можно мне с тобой зайти? Так хочется посмотреть настоящую московскую коммуналку. Никогда еще в ней не бывал.
Было заметно, что Моня предпочел бы забежать в свою квартиру один, но отказать мне он не смог.
В лифте, реликте первых пятилеток, поднялись на четвертый этаж.
Моня открыл входную дверь. Мы вошли в темную прихожую. Скрипнул под ногами древний паркет.
Дверь одной из комнат сразу раскрылась. Показалась молодая женщина. Только тут, в дверях, она неторопливо застегнула свой халат на одну пуговицу, прикрывая виды на… Ну, смотреть там было особенно не на что. Виды были так себе.
Увидев Моню, она громко воскликнула:
– Сашка! Ты только посмотри – кто к нам пришел!
– Кто? – раздался из глубины комнаты зычный мужской голос.
– Кто-кто… Гражданин Рабинович – вот кто.
Дверь комнаты распахнулась шире. Показался крупный мужчина самых цветущих лет. Без майки, в пузырящихся на коленях спортивных штанах.
– А-а, – отрывая крепкими зубами кусок бутерброда, произнес он. – Изволили показаться. А то участковый уже интересуется: а где, говорит, пропадает прописанный здесь гражданин Рабинович?
– А мы ему говорим: да откуда мы знаем – где он? – жена Сашки старалась точно воспроизвести то удивление, с которым они встретили вопрос участкового. – Он ведь у нас – лицо свободной профессии. Вольный казак…
На слове «казак» она хихикнула, прикрывая рот ладошкой.
Сашка, удовлетворенно жуя, толкает ее локтем – дай, мол, и мне сказать.
– А участковый говорит: «Это еще надо разобраться, какое он у вас лицо. Может быть, он – тунеядец?..»
Сашка, похоже, был изрядно навеселе. Да и женушка его хорошо зарумянилась.
– А мы ему говорим, – она живо изображала в лицах тот незабываемый визит участкового:
– Разбирайтесь-не разбирайтесь, товарищ капитан, а все останется у нас по-старому: как Моисей Абрамович – так обязательно лицо свободной профессии. А как Ванька с Манькой – так паши как негры!
– Каждый божий день… С утра до ночи… На каком-нибудь самом вредном производстве… – пережевывая бутерброд, уточнял Сашка горькую участь негров Ванька и Маньки. – А Моисей Абрамович ничего тяжелее кисточки за всю свою жизнь не поднимет…
У Мони задергалось лицо.
– Ты, мразь толстомордая! Врезать тебе сковородкой по башке?
Сашка довольно хохотнул. Вероятно, не впервые задавался ему здесь такой вопрос. Он как будто даже входил в азарт. Его веселило и заводило желание этого хилого пацана сцепиться с ним.
Добротно, рельефно был вылеплен природой этот коммунальный Голиаф. Мощный торс его был заботливо укрыт густой шерстью. Такому можно по пьяни и в самый лютый мороз выскочить на улицу вот так – без майки, в одних тоненьких штанишках – и бродить там в беспамятстве до самого утра. А когда отыщется – стряхнуть веником сосульки с его шерсти, налить ему полный стакан водки – и снова можно голым на мороз выталкивать, ни одна сопля его не прошибет.
… – А может быть, говорим, он уже, как вся его родня, перебрался на эту… Как ее?.. На землю обетованную… – подмигнул жене мутным глазом Сашка. – Может быть, он там теперь целыми днями сидит у этой… Как её?.. У стены плача.. Сидит и все плачет и плачет…
– …Вас, товарищ капитан, вспоминает! – соорудила дивный экспромт Сашкина жена, и оба они громко и радостно захрюкали.
– Прощу прощения, граждане, – перебил я семейные торжества. – Не слишком ли близко к печени вы принимаете чужую личную жизнь. Печень этого не любит. Это может помешать нормальному развитию цирроза. И похмельный синдром приобретает более острые формы…
Негр Ванька от неожиданности не донес кусок до рта, потом резко отбросил его в комнату.
– Я те щас, мать твою, покажу синдром! – шагнул он навстречу мне.
Я тоже шагнул вперед. Много не хватало мне до Сашкиного роста и мясов.
Чуть приоткрылась дверь соседней комнаты – робко выглянула и тут же спряталась обратно Варвара Сергеевна.
Широко распахнулась дверь дальней, четвертой в квартире комнаты, – из нее быстро вышел старик.
– Дай ты ему в харю, молодой человек! – срывающимся от волнения голосом крикнул он. – Дай ты ему в морду! – его совсем седая голова тряслась.
– Я те щас дам, старый козел! – замахнулся в его сторону Сашка.
Секунды назад счастливое лицо Сашкиной жены вдруг сразу сделалось плаксивым.
– Не надо, Сашка! Ну его! – она стала за локоть оттаскивать мужа от меня.
– Нет, ты пусти меня! – будто бы вырывался от нее Сашка, хотя для этого ему не понадобилось бы и четвертушки его мощи. – Я его щас по стенке размажу!
– Все, Сашка! Все, пошли! – тащила она его в комнату. – Прибьешь ещё кого-нибудь, потом отвечай за него…
– И прибью! – таращил глаза Сашка, но уже шел за волокущей его женой.
– Негодяй! – на секунду выглянула и снова спряталась в своей комнате Варвара Сергеевна.
Сашкина жена плотно закрыла за собой дверь.
Я кивнул старику.
Ключ в дрожащей руке Мони не сразу попал в замочную скважину его двери.
Я понимал, в чем сейчас самая большая горечь Мониного горюшка – отнюдь не домовые-затейники встретили здесь его гостя.
– Ничего-ничего, Моня, все в порядке, – похлопал я его по плечу, когда мы вошли в комнату. – Моя экскурсия в коммуналку получилась очень познавательной. Пожалуй, внесу некоторые коррективы в свой жилищный прожект: четырнадцати комнат для построения коммунальной идиллии будет многовато. Хватит и десяти.
В дверь постучали. Несмело вошла Варвара Сергеевна.
– Монечка, вам приготовить что-нибудь покушать?
– Спасибо, тетя Варя. Мы сейчас пойдем. Как вы тут с Петром Ивановичам? Здоровы?
– Какое уж там может быть здоровье? – кивнула она в сторону соседей.
В дверь снова постучали. Вошел Петр Иванович. Его голова все еще мелко дрожала.
– Моня, может, тебе деньги нужны? Так ты не стесняйся…
– Спасибо, Петр Иванович, не надо.
– Ну чего там спасибо. Не разбогател ведь, наверное, еще на своих картинах? Ты только скажи…
– Недолго приготовить покушать… – Варвара Сергеевна вопросительно смотрела на меня. – Сардельки у меня есть. Картошка хорошая…
– И у меня что-нибудь съедобное найдется, – бодряческим тоном сказал Петр Иванович. – Да чего там! Зажигай плиту, Варвара Сергеевна.
Грех было сопротивляться такому искреннему порыву гостеприимства.
Мы тоже вытащили кое-что из купленного в «Новоарбатском». Открывали, чистили, мыли, резали – старались показать Варваре Сергеевне и Петру Ивановичу, что и мы рады разделить с ними хлеб-соль. Я рассказал несколько уфологических баек, не применяя при этом слишком больших коэффициентов искажения.
Уже сидели за столом, когда из квартиры, сильно хлопнув дверью, вышли Сашка с женой. Это было хоть и временное, но отступление с поля боя.
Повернувшаяся в ту сторону седая голова Петра Ивановича снова затряслась:
– Ублюдки!
– Они на Монечкину комнату зарятся, – высказала свое твердое убеждение Варвара Сергеевна. – И участкового они сами сюда зовут. Посмотрите, мол, товарищ капитан, по скольку времени жилец по месту прописки не живет – можно его выселять. Но мы с Петром Ивановичем всегда скажем, что Моня здесь живет. Никто не выселит. Вот так!
– Давайте тяпнем, ребята, – предложил Петр Иванович.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Спасибо, но мы в экспедиции договорились на все время полевых работ соблюдать сухой закон.
– Какие молодцы! – поощрительно закивала головой Варвара Сергеевна. – А я и так знаю: Моня никогда не свяжется с дурной компанией. Никогда!
– Очень рад с вами познакомиться, Алексей! – Петр Иванович приподнял над столом свою рюмку.– И за Моню рад, что он с такими хорошими людьми дружит… Ну а мы с Варварой Сергеевной с вашего разрешения хлопнем по маленькой. За ваше и наше здоровье, за успех вашего дела!
– Вы уж, Алик, заходите, пожалуйста, к нам сюда почаще, – просила Варвара Сергеевна и гладила Моню по голове.
Узнав, что в экспедиции есть больной, она стала с таким жаром объяснять, как снять с него хворобу, что только от одного этого горячего участия дела у комиссара в тот же миг должны были пойти на поправку.
– …С потом все и выйдет. Вы только укройте его потеплее.
Захорошевший Петр Иванович откровенно высказал свое простое политическое кредо:
– У меня с этим так: я всегда против Сталина и всегда за евреев. С кем бы они ни воевали – с немцами, русскими или арабами.
Потом он отошел в свою комнату и вернулся с полной сумкой в руках.
– Так, в сумке, и несите. Я туда кое-что из своих стратегических запасов положил. Колбаска копченая, консервы, чаек индийский…
Как мы с Моней не отказывались, Петр Иванович ни стратегические запасы свои, ни даже сумки обратно не взял. А Варвара Сергеевна положила в нее еще и баночку клубничного варенья.
Грустны были при расставании чуть захмелевшие глаза стариков. Ненадолго даруется успокоение вином. Короток, хрупок покой в тесном мирке коммунальной квартиры. Вот и на закате дней жизнь в этом мирке обязывает к каждодневной борьбе. А здесь и редкие победы – это лишь отсрочки очередных поражений.
– До свидания, ребята! Удачи вам!
– Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы! – в свою очередь просили мы.
…Когда вышли на улицу, я оглянулся и стал подчеркнуто внимательно осматривать фасад дома.
– Тургеневских девушек в окошках высматриваешь? – спросил Моня. – Они в Уфологическом переулке в очереди за портвейном стоят.
Я как будто не слышал.
– Смотрю, где здесь в свое время будет расположен памятный знак о самом знаменитом жильце этого дома… Думаю, во-о-он между теми двумя окнами на первом этаже. Скромная мраморная доска, и на ней золотом будет написано: «Здесь жил…
– …Монька Рабинович. Жид и тунеядец».
– Ой, какой капризный! Не удалось ему человека сковородкой по голове огреть – он уже и обиделся на весь белый свет. Уродов беречь надо, а не сковородками бить. Ведь они у природы – штучный товар.
– Этот штучный товар на каждом шагу в глаза лезет!
– А что ты хочешь? Урод и должен быть хорошо виден. По определению. Чем он, бедняга, заметней и чем больше от него смердит, тем удачней получился он у матушки-природы.
– Матушка-природа могла бы и обойтись без таких удач. Кому они нужны?
– Да хоть бы и тебе. Для сравнения. Иначе ты проворонишь много человеческой красоты, которая будет рядом с тобой, – свободной рукой я обнял Моню за плечи. – Не отразишь ее в своих полотнах. Не станешь знаменитым. И не появится тогда здесь мемориальная доска с золотыми буковками: «Здесь жил и писал Красоту большой художник Земли русской – Моисей Абрамович Рабинович»… Не хандри! Что делать – бывают у Земли русской особо урожайные годы на таких уродов…
– На таких уродов у Земли русской вообще не бывает неурожайных годов!
– Опять двадцать пять! В «Большой советской энциклопедии» это обязательно будет отмечено: «…Но как все художественно одаренные натуры, Моисей Абрамович был подвержен приступам хандры и депрессии. В такие минуты он совершал нападки на исторические резолюции, компрометировал тургеневских девушек и с большой сковородкой в руках гонялся по Кисловско-Акварельному переулку за моральными уродами».
Всю обратную дорогу Моня вел себя в соответствии с примечаниями в «Большой советской энциклопедии». Пресекая эти хандрозно-депрессивные настроения во вверенном мне коллективе, я от уговоров перешел к драконовским мерам: пригрозил по возвращении на полянку имени ХXV съезда приказом по экспедиции лишить Моню ласковых комиссарских похлопываний по плечу, приветственного облизывания Партизаном и вечерней пайки сахара.
… – Мерзавцы! – сказал Вася о неграх Ваньке и Маньке.