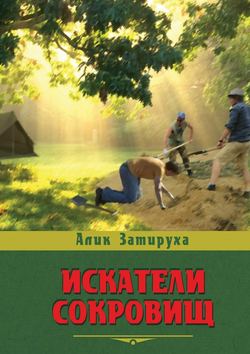Читать книгу Искатели сокровищ - Алик Затируха - Страница 4
Золотая полянка
Глава II. Везде люди живут
Оглавление– …Это хорошо, Алик. Эта прыть – верный признак того, что дела у тебя пошли на поправку, – снисходительно сказал Виталий Данилович при обходе. – Но все-таки волочиться за женщинами тебе еще рано. Вот когда сможешь на своих двоих дойти от койки до сортира… И в тот же день возвратиться обратно…
Неужто ревнует доктор? «Волочиться»! Лежа на кровати, немощной рукой я пытался лишь слегка приласкать красавицу медсестру. Много ли делов наворочаешь в таком положении?
Шлепающей дырявой тряпкой в нашей палате тете Зое я пообещал пригвоздить администрацию больницы к позорному столбу мирового общественного мнения – за такое черствое отношение к робким росткам больничной любви.
– Первые строчки открытого письма на имя Генерального секретаря ООН у меня уже готовы. «Глубокоуважаемый господин Вальдхайм! Как неоднократно утверждалось с высокой трибуны Генеральной ассамблеи, ничто так не способствует правильному сращению сломанных ребер, как нежные чувства между больными и хорошенькими медсёстрами. А вот руководство больницы №50 всячески препятствует проведению этих резолюций в жизнь. Позор!..» Надеюсь, Зоя Терентьевна, вы будете в числе первых подписанток этого обличительного документа. Заодно поставим перед Советом Безопасности назревший вопрос о новом ведре и тряпках для вас.
Поставить любой вопрос в устной форме Зоя Терентьевна была готова не только перед господином Вальдхаймом, но даже перед самим товарищем Кругловым, завхозом больницы. Но подписывать никогда ничего не будет.
– У нас что ни подпиши, обязательно или дураком, или предателем окажешься. Зять вон подписал письмо против директора их научного института и теперь не ученым-ихтиологом работает, а грузчиком в рыбном магазине. Днем работает, а вечерами письма пишет, справедливости везде ищет. Позавчера в «Спортивную рыбалку» отправил свою жалобу. Да чем, говорю, тебе эта «Спортивная рыбалка» поможет? Опарышей, что ли, пришлет?
– Нет, не поможет ему наша печать, – согласился я. – Она на одни отписки горазда. Я в этом убедился еще в пятом классе. Решил я тогда отблагодарить родину за свое счастливое детство. И заодно показать – какое ей перепало сокровище в моем лице. Написал политико-фантастический роман, где родина оставляет от мира капитализма лишь груду дымящихся развалин. Роман как роман, не хуже многих. А убитых и раненых в нем было даже больше, чем во всей остальной советской литературе вместе взятой. Как и полагается прогрессивному писателю, отослал свое сочинение в «Новый мир». К моему великому удивлению, «Новый мир» отверг его. Но не сам факт отказа больно уязвил мое авторское самолюбие, а иронично-оскорбительная отписка: «Не рановато ли в двенадцать лет браться за решение таких глобальных проблем?..» Здрасьте! А когда же еще решать глобальные проблемы, как не в молодые годы? В девяносто? В девяносто у человека остаются только свои проблемы – какой у него сегодня будет стул, и не подорожали ли опять ритуальные услуги?
– Да уж, проблем этих всегда слава богу… – в моей конфронтации с «Новым миром» Зоя Терентьевна трусовато не решается встать ни на одну сторону. Упорно добиваюсь от нее определенной гражданской позиции.
– Вся наша печать подкаблучна и полна страхов. Вот поэтому, Зоя Терентьевна, нам с вами и нужна международная трибуна. Тогда наш голос аукнется по всей планете. Тогда наши справедливые требования уже нельзя будет игнорировать. Медсестра Лена будет часами сидеть на краешке моей кровати, а завхоз Круглов лично принесет вам из дома свое лучшее ведро, только бы перестали трепать его имя от Ванкувера до Куала-Лумпура.
– Мне на виду нечего быть, – отмахивается от мировой известности тетя Зоя и, посягая на мое игривое настроение, говорит: – Тебе, Алик, рано еще озорничать. Только-только ведь косточки начинают заживать… А Ленку и без тебя есть кому приголубить.
– Да ну?!.
– Вот тебе и «Да ну!» – так уверенно сказала Зоя Терентьевна, будто не раз уже была свидетельницей воркования двух голубков в кабинете Виталия Даниловича.
– Товарищи, тише, пожалуйста, – вежливо попросил другой пациент нашей четырехместной палаты.
Вася, крупный телом, головой, чертами лица блондин, внимательно читал стенограмму ХХV съезда КПСС. Он был помоложе меня, лет двадцати четырех.
И сейчас, когда все мы лежали в кроватях, было видно, что третий постоялец палаты будет только по плечо Васе. Худенький, осунувшийся, он все время сосредоточенно рисовал что-то в своем альбоме. Представлялся он всем так, будто предлагал какой-то тест: «Моисей Абрамович Рабинович».
Возможно, Моисею Абрамовичу уже было девятнадцать лет, а возможно, и полных восемнадцати еще не было.
Четвертый мужчина, по возрасту годящийся нам троим в отцы, все время лежал молча, сложив на животе руки и почти не открывая глаз. В разговорах он не участвовал. Комментировал только упоминание смерти. Пророчеством: «Все Т а м будем» или вопросом: «Эх, знать бы – что Т а м…»
Были, похоже, у Михаила Карповича предчувствия задаваться таким вопросом. Не в потолок, казалось, с тоской смотрели его глаза, когда он изредка открывал их, – Туда они уже смотрели.
Чаще всего приходили к Васе. Многочисленные Тихомировы были людьми интеллигентными и образованными. Они не уставали повторять, что кальций для костей – как цемент для бетона. Теперь все пациенты палаты №28 знали, что лучше других продуктов питания аккумулируют в себе кальций петрушка, урюк, вишня, халва, шоколад, сыры… Вася, угощая нас, не принимал никаких отказов. Кальций делился на всех поровну.
Ко мне приходили малосведущие в медицинской химии лимитчики. Взращенные неизбалованной деликатесами провинцией, они была уверены, что больше всего полезных для организма веществ содержится в копченой колбасе и вареной курице. Колбасы и курицы тоже в обязательном порядке шли в палате по рукам.
К Моне изредка приходили два таких же юных, худых и таких же мрачных, как он, художника. Говорили они только шепотом.
Приходила к Моне и его пожилая соседка по коммунальной квартире, Варвара Сергеевна. Приносила ему домашние пельмени, гладила по голове и тихо приговаривала: «Совсем худющий ты стал, Монечка. Так-то одному жить. Вот поехал бы вместе со всеми своими в Израиль, был бы цел и невредим…»
К Михаилу Карповичу никто не приходил. «Не завел никого возле себя – вот никто и не приходит», – коротко и нехотя объяснял он свое одиночество.
Узнав, что я – лимитчик, Вася добродушно спросил:
– Олимпийские объекты приехал возводить, Алик?
– Олимпиада и без меня обойдется, Вася. А вот прослышал я в своем далёком далеке, что есть в Москве Скотопрогонная улица, Первый и Второй Бабьегородские переулки, а также Хухриков, Малый Могильцевский и прочие пережитки топонимики. Да как же так?! Как могут быть в образцовом городе-герое улицы с такими названиями? Может человек, живущий в Староконюшенном переулке, думать о достойной встрече ХХV съезда родной КПСС? Дудки! Он должен думать о хомутах, овсах и попонах… Пора тебе, Затируха, в Москву, постановил я. Сами они никогда не догадаются исправить эти режущие слух строителя коммунизма названия. Мой доклад в Моссовете обещает быть очень конструктивным. В нем я не только обращу внимание отцов города на старорежимные названия, но и предложу диктуемые эпохой новые. Например, Сивцев Вражек хочу переименовать в переулок Постоянной временной прописки. Красиво и актуально, правда?
– Зачем же его переименовывать? – улыбнувшись, сказал Вася. – Сивцев Вражек – очень милое название…
– В переулке с таким названием совершенно невозможно строить коммунизм, – объясняю я свои топонимические наскоки. – В Сивцевом Вражке можно только гороховые кисели хлебать и воздыхать о благословенных временах матушки Елисаветы, когда некоторые местные старожилы еще помнили, что означает это диковинное название… Грустно, Вася, что ты не одобряешь мой предстоящий доклад в Моссовете.
Не отрывая глаз от рисунка, Моня сухо говорит:
– Вот если ты назовешь Сивцев Вражек улицей Продолжительных аплодисментов или проспектом Бурных оваций, тогда товарищ Василий одобрит твой доклад в Моссовете.
– И тогда не одобрю, – спокойно сказал «товарищ Василий». – Коммунизм будет обязательно построен и в Сивцевом Вражке, и даже в Малом Могильцевском переулке.
Не впервые в этой палате защищались от нападок продолжительные аплодисменты, бурные овации и причины, их порождающие. Терпя поражения в атаках на них, Моня переходил на личности. Он вновь и вновь обращал внимание присутствующих на то, как трудна и опасна работа крупных кадровых партработников. Сколько и сколько из них сверзилось со всяких возвышенностей, включая унитазы, любовно прилаживая в коридорах, кабинетах и клозетах своих контор транспаранты: «Решения исторического ХХV съезда КПСС – в жизнь!» Сколько и сколько переломало себе при этом все кости.
И каждый раз Вася, великодушно прощая Монину горячность, спокойно доводил до сведения тех же присутствующих, что он – всего лишь заместитель секретаря небольшой парторганизации; транспарант вешал не в конторском клозете, а на козырьке ее подъезда; упал не с унитаза, а с высокой лестницы; не все кости переломал при этом падении, а только одну ногу.
– Поверь, Моня, я тебе искренне сочувствую. Но корректно ли винить в избиении каждого художника органы, партию, государство? Разве не мог ты столкнуться с обыкновенной шпаной? Или психами, которые патологически не приемлют любой формализм в искусстве…
Я уточнил:
– То бишь, психами, которые патологически приемлют только социалистический реализм…
Вася сразу встал на защиту соцреализма:
– Надо ли, Алик, говорить о нем в столь уничижительном тоне? Я вот тоже никак не могу признать произведением искусства какую-нибудь композицию из помятого ночного горшка, облезлого веника и дохлой крысы…
– Товарищ Василий признает произведением искусства только какую-нибудь композицию из ордена Ленина, голубя мира и полной стенограммы ХХV съезда родной КПСС, – ни на секунду не отрываясь от рисования, сказал Моня.
– Ну вот, обиделся за формализм, – посетовал Вася…
Моня и вправе был обидеться. Легкими путями в своей конфронтации с социалистическим реализмом он не шел и ночных горшков никогда не писал. Ночной горшок, да еще с облезлым веником и дохлой крысой впридачу, – тут сразу понятно, что это не просто отступление от социалистического реализма. Тут уже явной антисоветчиной попахивает. А вот сумей-ка ты привнести такой душок, например, в композицию, главным элементом которой служит кумачовый лозунг – «Вся власть Советам!» По мнению самых компетентных в изобразительном искусстве товарищей, Моне это удавалось. И компетентные товарищи все с большим нажимом ставили на вид эти удачи гражданину Рабиновичу. Гражданин Рабинович товарищеским замечаниям злостно не внимал…
…Никакой официальной рекламы – а немало народу собралось на выставку, самовольно устроенную кучкой художников прямо под открытым небом. Иностранцы были. Делали большие глаза и цокали языками, восхищенные смелостью авторов… Первый раз два подтянутых искусствоведа в штатском мимо Мони прошли – только взглядами обожгли. А после второго просмотра мягко покритиковали сквозь зубы: «Убери свое дерьмо, целее будешь…» Моня эту критику услышать не пожелал. Поздним вечером того же дня она была продолжена в подъезде с вывернутой лампочкой. После ее окончания подняться сам Моня уже не смог.
– Не могу поверить, что такая жестокость была санкционирована властями, – недоумевал Вася. – Ну, порезвились полтора десятка фрондирующих художников перед иностранцами – что за ущерб для сверхдержавы?
– Профилактика, – попытался я объяснить такие критические проработки в темных подъездах. – Всякую заразу в искусстве надо искоренять быстро и решительно. Иначе потом для борьбы с ней никаких искусствоведов не хватит.
– Но ведь так и убить человека можно… – таких проработок в темных подъездах, если они действительно имеют место, Вася не одобрял.
Как только дискуссия достигает предела жизни – Михаил Карпович тут же принимает в ней участие:
– Эх, знать бы – что Т а м? – открывает он тусклые глаза.
– Ничего там нет, Михаил Карпович, – Вася говорил уважительно, но так уверенно, будто этот тезис снова и снова находил подтверждение в прорабатываемых им материалах ХХV съезда.
Михаил Карпович пытался перечить постановлениям съезда:
– А ведь рассказывают же люди: сначала попадаешь в тоннель… В конце его – сияние… Потом тебя встречают твои родственники… Ранее усопшие…
– Галлюцинации, – терпеливо объясняет Вася. – Милосердная природа таким образом скрашивает последние мгновения нашей жизни. Чтобы те, кто все-таки выкарабкался, могли обнадежить живущих вечностью… Гуманно, но не научно. Здесь, на Земле, все наше время. Какая-то память о нас или быстрое забвение. Кто что заслужил… Да зачем вам об этом думать, Михаил Карпович? Выздоравливайте и живите себе еще долго-долго! Скушали бы что-нибудь. Совсем в последние дни не едите…
– Может быть, и галлюцинации, – слабым голосом возражает Михаил Карпович, – а может быть, и нет…
Однажды я решил внести свежие элементы в эту унылую пикировку материализма с идеализмом.
Будто решившись, наконец, нарушить какой-то обет молчания, негромко говорю:
– Тоннель имеется, товарищи. Когда я был Т а м, – выразительно поднимаю палец вверх, – мне довелось проскочить им. Незабываемые ощущения!
Михаил Карпович широко открыл глаза, с трудом повернулся на бок и весь подался ко мне. Моня, не переставая рисовать, улыбнулся уголком губ. Вася оторвался от стенограммы ХХV съезда и с легким сарказмом сказал:
– Ну да, ведь ты, Алик, прошел через реанимацию. Похоже, при таких печальных обстоятельствах божественных откровений никак уж не избежать.
Не обращая внимания на тон Васи, продолжаю:
– Только вылетел из тоннеля, только перебросился парой слов с дядей Тимофеем, – как хвать меня какая-то силища и потащила куда-то. «Не дрейфь, Алексей, – крикнул мне на прощанье дядя Тимофей. – Тебе теперь в Карантин дорога». Так и есть: попадаю я в этот самый Карантин. В партсектор…
– Ты же говорил Виталию Даниловичу, что являешься убежденным монархистом, – перебил меня Вася. – Как же тебя в партсектор угораздило попасть?
– Тут, друзья, я опять должен возвратиться к своей бурной пионерской молодости. Приветствуя открытие районной партконференции, наш 4-й «А» песню о партии там распевал. Солировал я. Вот мне в Карантине это солирование и припомнили. Там тебе все припомнят. И во всем разберутся. Наносное, коросту, шлак – это добро, не поскупятся, в семи скипидарах смоют. А вот то, что и в таких ваннах не смывается, что намертво в душу въелось, – то уж действительно навек твоим останется. С ним тебя из Карантина и отправят к месту постоянной прописки – в Верхнее или Нижнее Хозяйство.
– Как ты сказал? – вытянул морщинистую шею Михаил Карпович.
– В Карантине, на тамошнем жаргоне, именно так обозначают два полюса потустороннего мира – Верхнее и Нижнее хозяйства. Верховенствующую суть Верхнего хозяйства величают Ясный Свет. А босса Нижнего в Карантине называют Хозяином. Шёпотом.
– Нелегко, должно быть, приходится нашему брату-партийцу в Карантине? – улыбнувшись, предположил Вася. Он уже догадывался, что моя бурная пионерская молодость однопартийцами нас не сделала.
– Каких-то особых придирок к рядовым членам я не заметил. Вот партактиву – тому да, несладко приходится. С освобожденными секретарями, маститыми внешнеполитическими обозревателями, политологами, главными редакторами крупнейших газет, заведующими кафедрами научного коммунизма, лекторами со стажем – с теми, кроме стандартных скипидарных ванн, проводят еще какие-то очистительные процедуры. За наглухо закрытыми дверями. Оттуда только стоны и покряхтывания слышатся – наподобие тех, что раздаются из парной, когда банщик с паром сильно переборщит. Но вышеперечисленным товарищам и спецпроцедуры не всегда помогают.
– Значит, участь партактива в Карантине предопределена – там их задерживают только для проформы? – в голосе Васи уже звучит некоторая обида: из моей потусторонней сказки выходило, что основной контингент Нижнего хозяйства – это как раз партактив.
– О предрасположенности можно говорить только для штатных идеологических работников. Да, те сразу отправляются в Нижнее хозяйство. Им в Карантине даже белье не меняют. Ну и с теми, кому никакие спецпроцедуры не помогают, – с ними что прикажете делать? Тогда Карантин становится для них местом последнего свидания с теми их родственниками, которые квартируют в Верхнем хозяйстве. В день отправки очередного этапа в Нижнее хозяйство те прилетают на КПП Карантина. Должен заметить, что большинство этапируемых держатся в такие минуты очень достойно. О снисхождении не просят, кассаций не подают. Да и родственники из Верхнего хозяйства успокаивают их как могут: везде, мол, люди живут… Конечно, как и всюду, и тут случаются порой проявления слабости. Иногда ветерок доносит крики от КПП. Это очередной ренегат клянется прибывшим за ним экспедиторам из Нижнего хозяйства, что у него по сей день на даче, в подвале, на дне кадушки с кислой капустой, в непромокаемом футляре маленький нательный крестик спрятан. Поэтому в Нижнем хозяйстве много мороки будет с его святостью. А служивые ему в ответ: «Не хулиганьте, товарищ. Не заставляйте себя ждать. Хозяин этого не любят. Поцелуйте дедушку – и айда!»
– Пощади, Алик! – с напускной мольбой в голосе просит Вася. – Оставь партактиву хоть маленькую надежду на попадание из Карантина в райские кущи.
Я внял просьбе:
– Нет правил без исключений. По Карантину упорно ходит легенда, что однажды оттуда, после беспрецедентной санобработки, был направлен в Верхнее хозяйство ни кто-нибудь, а кандидат в члены Политбюро. Правда, вскоре после этого Гавриил нашел у себя под подушкой «Манифест коммунистической партии» с припиской: «Прочти и передай другому». Чьих рук это было дело?.. Эх, и большая чистка, говорят, была после этого в Верхнем хозяйстве!..
Моня, окончательно убедившийся в том, что я уже никогда больше не буду петь песен о партии, благодарно улыбнулся мне.
Вася беззлобно резюмировал:
– Да, задиристая получилась карикатура. Правда, Михаил Карпович?
С трудом переваривая услышанное, Михаил Карпович вдруг обиженно говорит:
– Да, им там, в Верхнем хозяйстве, хорошо говорить, что везде люди живут…
Бежали дни. Палата все больше наполнялась весенним солнцем. Все жизнерадостнее посвистывали за окнами преисполненные свадебных намерений птахи. Тетя Зоя, с замиранием сердца слушая мои мрачные саги о репрессиях в Нижнем хозяйстве, говорила: «Свят-свят!..» – и прибирала у нас все тщательнее.
Моня закончил портреты в карандаше всех обитателей нашей палаты.
Внимательно всмотревшись в свой, я не мог не сказать:
– Вот теперь я точно знаю, каким хотел бы видеться окружающим. Вот таким. Если все видят меня так, как видишь ты, Моня, то мне нечего обижаться на матушку-природу. Раньше у меня были к ней кое-какие претензии.
Вася тоже был доволен своим портретом. «Добрый парень», – убежденно сказал бы любой, только взглянув на него. Сразу было видно, что это славное открытое лицо не может быть злым. У него просто отсутствуют приводные мышцы этой гримасы.
– Спасибо, Монечка! – растроганно сказал Вася. – Я буду хранить этот портрет всю жизнь.
Даже на лице Михаила Карповича при взгляде на свой портрет впервые промелькнуло подобие улыбки.
– Орел!..
Угасал Михаил Карпович. Лучшие кусочки, которые мы ему подкладывали, оставались нетронутыми. К нему так и не пришел ни один человек.
Тихо, безо всякого интереса к событиям и людям, лежал Михаил Карпович в своей кровати и только тогда, когда я настраивал принесенный мне лимитчиками ВЭФ-202 на «Немецкую волну», – вот тогда с ним что-то происходило. Не один раз переспросил он фамилию автора книги, которую несколько вечеров подряд читали в далеком Кельне.
– За-рец-кий, – по слогам повторял я. – Что, заинтересовало? Увы, Михаил Карпович, своими впечатлениями об этой книге вам с ее автором уже никак не поделиться. Бывают такие нездоровые причуды у литераторов: корпят-корпят над сочинением, а обнародовать его велят только после своей смерти. Помнится, Марк Твен некоторые свои произведения завещал опубликовать только через сто лет после кончины. При всем уважении к Марку Твену, мы, советские читатели, таких завещаний одобрить никак не можем.
Попытаться хоть чуть развлечь его – что еще могли мы сделать для Михаила Карповича.
Просматривая газеты, говорю:
– А вы не находите, товарищи, что наша медицина как-то очень кисло откликается на исторические предначертания ХХV съезда родной КПСС? Растут надои молока, увеличивается выплавка чугуна и стали, больше заготавливается хвойного кругляка и щетины, а медицина как бы отстранилась от всеобщего энтузиазма. Где сводки Информбюро о битвах с глистой и холерными вибрионами? Где послесъездовская сшибка мнений о путях борьбы с косолапостью и облысением советского человека?..
– Где рапорты с мест об искоренении поноса на 120 процентов? – подхватывает Моня.
– Где… – вращая глазами по сторонам и прищелкивая пальцами в поисках нужного слова, Вася тоже пытается вступить в заданную игру, но я, дабы не потерять вдохновения, эгоистически не дожидаюсь его прихода к другому:
– Предлагаю написать и повесить в нашей образцовой палате лозунг дня: «Медик, кальций – не панацея. Шире внедряй в организм больного калийные и фосфатные удобрения! Крепи кость трансурановыми элементами!» Нарисует лозунг дня Моня, а повесит его на видном месте, конечно, Вася. С его огромным опытом по развешиванию транспарантов…
В этот момент Михаил Карпович как-то очень нехорошо захрипел и отчаянно замотал головой.
– Что такое, Карпыч? Что, старина, плохо тебе? – всполошились мы. – Позвать врача?
– Никого не зовите. Слушайте меня внимательно и не перебивайте… Моня, приготовь бумагу и карандаш. Пусть хоть у вас останется память обо мне. Успеть бы только…
Успел.
Потом мы позвали медработников.
До следующего дня старый шофер не дожил.