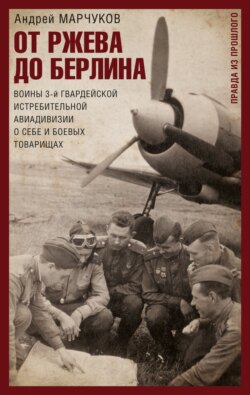Читать книгу От Ржева до Берлина. Воины 3-й гвардейской истребительной авиадивизии о себе и боевых товарищах - Андрей Марчуков - Страница 4
Раздел 1
Стенограммы
Гвардии полковник
Яньков Андрей Ильич
ОглавлениеЗаместитель командира 3[-й] гвардейской истр[ебительной] авиадивизии по политчасти. 1904 г. рождения[49]. Член партии с 1926 г. Награждён орденом Красной Звезды.
В армии нахожусь с 1924 г. В [19]38 году окончил Военно-политическую академию им. Ленина. В [19]39 году окончил Высшие военно-политические курсы. Участвовал в ликвидации басмачества на Туркестанском фронте, затем в финской кампании[50] и в польском походе[51]. Работал на руководящих партийно-политических должностях, был комиссаром бригады, потом комиссаром дивизии. В этой дивизии нахожусь со дня её формирования.
15 июня [19]42 г., как раз в тяжёлый период для нашей родины, когда враг рвался на юг, Ставкой была дана директива о формировании 210[-й] истребительной дивизии. Командиром дивизии был назначен полковник УХОВ, комиссаром дивизии был назначен я. Начальником штаба был полковник Скляр. 18 июня [19]42 г. мы сошлись в деревне Никольское на Калининском фронте. Я приехал из ВВС 4[-й] Ударной армии, где я работал на должности комиссара, находились мы тогда в Велиже. Ухов приехал с Брянского фронта. Скляр с Юго-Западного. Задача была такая – в короткий срок сформировать дивизию в составе: 1[-го] гвардейского Краснознамённого и ордена Ленина истребительного полка, 163[-го] истребительного полка и 521[-го] истребительного полка. Сроки формирования были очень сжатые, так как на Калининском фронте пока что развёртывалась единственная истребительная дивизия. Таким образом, задача наша заключалась в том, чтобы быстро сколотить части дивизии, сделать её боеспособной, чтобы она могла бы быстро войти в состав действующих частей. На это были направлены все усилия командования дивизии, на это было направлено и всё внимание партийно-политической организации. Вся партийно-политическая работа была построена именно так, чтобы быстро освоить части, организационно их сколотить, закрепить, быть готовыми к выполнению боевых задач.
Помимо всего прочего, трудность ещё заключалась в том, что 1[-й] гвардейский полк тогда переходил на новую материальную часть. До этого он летал на английских самолётах типа «Харрикейн», а теперь ему нужно было переходить на самолёты Як-1. И это был как раз и период его переучивания, освоения его материальной части, ввода 70 % молодого лётного состава в строй, так как после тяжёлых боёв он потерял значительное количество лётного состава и теперь должен был пополняться. Полученный как пополнение, молодой лётный состав нужно было вывозить на новой материальной части, чтобы как можно скорее ввести в бой.
163[-й] полк тоже получал молодой лётный состав на одну эскадрилью. К тому же он не имел почти совершенно исправной материальной части, а его материальная часть за время зимних боёв была также потрёпана, моторы были уже выработаны, требовался их ремонт, и, таким образом, из большого количества материальной части, которую он имел, очень много было неисправных машин.
521[-й] полк к тому времени отдал лучшую часть своего личного состава 32[-му] гвардейскому полку, туда ушли во главе с Клещёвым*[52] его лучшие лётчики, а взамен их получил 12 человек молодняка[53].
Работать в таких условиях было чрезвычайно трудно. Нужно было людей обучить, научить на новой скоростной материальной части, научить драться, как следует спаять весь народ. Причём трудности эти усугублялись тем, что лётный состав для нас был совершенно новый, это были для нас совершенно незнакомые люди.
К счастью, со мной прибыл партийно-политический аппарат, который прошёл большой боевой опыт работы в частях. Он работал со мной и в 4[-й] дивизии, и в ВВС 4[-й] Армии, это был аппарат, имеющий большой практический опыт в условиях войны, и мы быстро стали ориентироваться в обстановке, направлять партийную организацию на решение основных задач, стоящих перед дивизией. Таким образом, с этой задачей мы справились сравнительно быстро и неплохо. Правда, обошлось и не без таких элементов, которых пришлось просто изъять. Так, например, в роте связи оказался политрук – предатель, изменник родины. Он был сначала исключён из партии, а потом арестован особым отделом[54]. Нашлись и пораженцы вроде Зенько[55] – техник-интендант в 163[-м] полку, который был исключён из партии и потом тоже арестован. Это также помогло направить работу партийной организации на решение основных задач.
Ровно через две недели, 2 июля [19]42 г., мы получили уже боевой приказ на операцию. К этому времени в основном мы считали дивизию укомплектованной, части сколоченными; лётный состав был введён в строй, отлетался. В отношении технического состава нужно сказать, что он во главе с инженером Большаковым работал очень много, работал буквально и день и ночь, и бывали и такие случаи, что техники монтировали моторы М-105 на Як-1, и всё это в полевой обстановке. Так что такой самоотверженный труд мог быть только у людей, которые впереди имели в виду только победу и ради этой победы они делали всё, что было в их силах. Работать приходилось всё время, как я сказал, в полевых условиях, не было необходимых приспособлений, не было таля, надо было как-то приспособиться, чтобы снять или поставить мотор. И технический состав выходил из всякого затруднительного положения, делал всё необходимое, и материальную часть мы тогда очень сильно подтянули.
Задача была поставлена очень серьёзная и ответственная. Она заключалась не только в том, что людям нужно было идти в бой, но люди должны были действовать на территории, занятой противником. Это – во-первых. Во-вторых, наши самолёты ходили на большое расстояние от аэродромов, т. е. ходили с большим пределом по радиусу. И в результате правильной ориентировки партийно-политических организаций, правильного направления работы партийных организаций в полках и в дивизии в целом мы имели успех в первой нашей операции – это Белыйская операция по выводу нашей 39[-й] Армии из окружения, операция, которая началась 2 июля [19]42 г.
В этой операции исключительный героизм проявил командир эскадрильи 1[-го] гвардейского полка капитан ТОЩЕВ*, который тогда же погиб смертью героя. Об этом очень интересно после рассказывали документы наземных войск – как дерутся наши гвардейцы. Мы получили акт наземных войск, которые наблюдали за воздушным боем, который вёл Тощев с 6 «мессершмиттами». Он ходил звеном, пара вернулась, а он не ушёл с поля боя, а выполнял там свою задачу, несмотря на то что превосходящие силы противника угрожали ему гибелью. В этом бою он сбил три самолёта противника, но отдал и свою жизнь[56].
Был у нас лейтенант ПАНТЮХОВ*, он был простым лётчиком и до этого он ничем не выделялся из среды других лётчиков. Но в этих боях он показал буквально чудеса мужества и смелости. Однажды в неравном бою он был подбит и выпрыгнул из самолёта с парашютом; попал он на нейтральную полосу, перейти к нашим бойцам ему не удалось, потому что его захлестнуло быстрое продвижение противника. Он остался на территории, занятой противником. В течение двух месяцев он дрался вместе с партизанами с винтовкой в руках, а потом уже был переброшен в свою часть, причём партизаны характеризовали его как одного из лучших бойцов их отряда. Он был награждён Орденом Красного Знамени[57].
Немало молодых лётчиков воспитала и дивизия, в частности, был у нас такой лётчик, как сержант УВАРОВ*, совсем молодой паренёк. Из 12 полученных нами лётчиков мы не имели ни одного, который не показал бы исключительное мужество и самопожертвование в этих боях. Уварова мы потеряли, и потеряли кроме него ещё двух: НУЯТОВА* и………[58].
Чем достигалось? Мужеством и самопожертвованием лётчиков. Достигалось это тем, что в этих полках партийные организации работали так, как они должны работать в условиях войны. Коммунист ЗОТОВ*, тогда комиссар полка, водил людей в бой сам, прекрасно летал, имел несколько сбитых самолётов, дрался успешно. Правда, впоследствии он погиб. Но в тот момент он подавал пример лётчикам своего полка, как нужно драться. Много в этом направлении работал и неосвобождённый секретарь партийного бюро полка[59], по занимаемой должности – врач полка[60], КУЗНЕЦОВ* – комиссар эскадрильи, который в исключительно короткий срок переучился с самолёта типа бомбардировочной авиации на истребитель и стал прекрасно летать на «яке».
Затем ДРАНЬКО*[61], дважды награждённый орденом Красного Знамени за свои боевые успехи. У этого лётчика мог поучиться весь лётный состав. Для характеристики его мужества и отваги можно привести такой пример. В августе [19]42 г. шли сильные бои на Ржевском направлении. Они дрались шестёркой против 12 «МЕ», которые прикрывали группу 24 самолётов бомбардировочной авиации. У ДРАНЬКО на самолёте отказала пушка, стрелять он не мог, но он из боя всё же не вышел. Он был ведущим, он должен был руководить боем. И хотя сам он стрелять не мог, он всё же продолжал вести бой с ложными атаками на противника. Это был сильный, авторитетный, серьёзный руководитель, боевой командир.
Партийная организация, в свою очередь, по-боевому подходила к разрешению отдельных вопросов, к устранению тех или иных недостатков. Люди пересели на новую материальную часть, недостаточно ещё владели ей, был целый ряд недостатков. Нужно было в ходе боя уже изучать машину, доучиваться технике пилотирования на этой машине, нужно было освоить наиболее выгодные тактические приёмы для этой машины, нужно было знать слабые и сильные стороны этого самолёта. Всё это, безусловно, сказывалось на эффективности работы полков. Лётчики 1[-го] гвардейского работали раньше на английских машинах, и своей машины они не знали в достаточной степени, и незнание машины в воздухе приводило к невыполнению задания. И партийная организация прилагала все усилия к тому, чтобы лётный состав в совершенстве овладел машиной, в совершенстве знал свой самолёт.
спечить наши наземные части, которые должны были выбить противника из Ржева, так как это был плацдарм противника, нечто вроде трамплина, который служил для последующего прыжка и удара по Москве после зимней операции [19]42 г. И в этой Ржевской операции наша дивизия принимала активное участие. За Ржевскую операцию у нас 40 с лишним человек было награждено орденами.
Этот период для истребительной авиации был характерен рядом жёстких и суровых приказов Наркома обороны по поводу неэффективности работы нашей авиации, по поводу проявления трусости отдельными людьми в боях[62]. И такие вещи имели место у нас, в частности, командир эскадрильи 1[-го] гвардейского полка Петров был за трусость переведён в штрафную эскадрилью. Когда ему было об этом объявлено, то он, запутавшись во всех своих противоречиях, покончил жизнь самоубийством[63].
За трусость из 163[-го] полка в штрафную эскадрилью был переведён и Кутьков*[64]. Правда, он кончил тем, что через несколько дней в боях сбил четыре самолёта противника, он был тяжело ранен и таким образом кровью своей смыл с себя прежний позор. После ранения он в полк не возвратился.
Но было немало примеров в 163[-м] полку и героизма. Был там лётчик ШАРОЙКО*. Если вы на него посмотрите на земле, то вы никогда не подумаете, что в этом человеке таится такая громадная сила, которая способна наводить ужас и страх на врага. Это был небольшой, невзрачный человек, чрезвычайно жизнерадостный по своей натуре. Он говорил так быстро, как будто пулемётом строчил. Где бы он ни появлялся, вокруг него собирается весь лётный состав, так как никто не умеет рассказать так смешно, как Шаройко, и от этого людям даже в такое тяжёлое время, как тогда, становилось легче на душе. Он был дважды награждён орденом Красного Знамени за боевые дела. 14 августа [19]42 г., в период Ржевской операции, он не вернулся с боевого задания. Они ходили бомбить аэродром противника, расположенный в Сычёвке.
Был у нас трижды награждённый орденом Красного Знамени совсем ещё молодой паренёк 23 лет – КАТЮКОВ*. Он чрезвычайно быстро вырос до помощника командира эскадрильи. Причём раньше у него был элемент некоторой недисциплинированности. Когда мы его принимали в полк, нам его характеризовали как хорошего бойца в воздухе и недисциплинированного на земле. Я это учёл. Кстати говоря, комиссар и командир полка, где был Катюков, были оттуда сняты, и полк мы приняли с новым командиром и новым комиссаром, которые, естественно, людей ещё не знали. Поэтому нам самим пришлось осваивать этот полк. Командиром полка там был КУКИН*.
И вот у меня как-то с Катюковым произошёл разговор. Я задал ему вопрос:
– Товарищ Катюков, в одной характеристике я прочитал, что вы на земле – недисциплинированный, что, разве вы только в воздухе любите родину, а на земле не любите её, если вы нарушаете дисциплину?
Он подумал, подумал и сказал:
– Товарищ комиссар, до меня это как-то не доходило, впредь я постараюсь быть дисциплинированным и на земле.
Это был человек определённого склада, и к нему нужно было как-то особо подойти, не с обычной меркой. Он был коммунистом и мужественно выдерживал самые напряжённые и тяжёлые моменты в работе. Тогда, например, был момент, когда в полку оставалось только пять лётчиков – это ЗУДИЛОВ*, КАТЮКОВ, ВОЛКОВ*, ШАРОЙКО и КОНЯХИН*. Эта пятёрка выдерживала в течение месяца самые напряжённые бои, которые только знала история авиации. В конце концов, Шаройко не вернулся с задания. Катюков был сбит, потом вернулся. Зудилов, Волков и Коняхин благополучно здравствуют. Сбивали они не единицы самолётов противника, а бывали бои, когда эта пятёрка сбивала по 11, по 14 самолётов. Дрались они исключительно.
Зудилов, их ведущий, не знал вообще поражений в воздухе, а сам он имел 23 сбитых самолёта. Сейчас он находится в 157[-м] полку. Волков был тогда молодым пареньком, он был командиром звена, потом вырос до командира эскадрильи с последующим продвижением на должность командира полка. От старшего лейтенанта он вырос до майора. Он имел орден Ленина, орден Красного Знамени и был представлен к Герою Советского Союза. У него – большие организаторские способности. Он – [19]18 года рождения, но по внешности ему можно было дать больше, видимо, на нём отражалась его профессия и то, что он часто смотрит смерти в глаза, наложило на него свой отпечаток. Это серьёзный, вполне оформившийся командир, прекрасный коммунист. О том, что он хороший коммунист, командир-большевик, говорило всё его поведение, его часто ставили в пример другим командирам эскадрильи, он никогда не уйдёт на отдых и не успокоится, пока не убедится, что все люди у него сыты и размещены как следует, все знают свои боевые задачи. Слабым он всегда показывал, помогал, работал с ними до тех пор, пока они не поймут то, что от них требуется. Т. е. это был исключительный во всех отношениях человек, причём не просто человек, который заучил какие-то военные шаблоны, – он прекрасно разбирался во всех вопросах, имел по всем вопросам своё суждение. Он не просто говорил о недостатках того или иного воздушного боя, а указывал конкретные моменты.
Однажды во время Зубцово-Ржевской операции[65] он пошёл семёркой, и его крепко пощипали. Он выпрыгнул на парашюте, немного обгорел. Потом пришёл и доложил, что его сбили, и не потому, что противник был сильнее их, а потому, [что] я – так он сказал – неправильно построил боевой порядок, в силу чего мы и понесли большие потери. Ведь обычно лётчики говорят, что меня сбили потому, что было превосходство противника в воздухе, а он прямо сказал, что это была его ошибка. И это ярко характеризует его как человека, который рассуждает не по трафарету, а имеет своё собственное суждение о вещах[66].
Он также был воспитанником нашей дивизии. В отношении тактики, в отношении огневой мощи он обладал исключительным талантом. Примером этому может служить его выступление на лётной конференции в октябре месяце [19]42 г. Он поднял там чрезвычайно глубокие и серьёзные вопросы, очень продуманно, глубоко и вместе с тем сжато изложил свои мысли.
Вот такие люди были в 163[-м] полку.
Но были у них и недостатки, и недостатки немалые. Они заключались в том, что у них начальником штаба был некий Сушков[67], старый работник, привыкший, видимо, работать без контроля командования, да и у партийной организации не было нужной остроты в решении вопросов. Причём в своей работе Сушков начал опираться на нездоровые элементы, что привело к целому ряду серьёзных организационных недостатков. Он, например, часто передоверял доведение боевой задачи до лётного состава начальнику связи, человеку в авиации совершенно неграмотному, тогда как такую задачу должен хорошо продумать грамотный в вопросах авиации человек, так как нужно указать не только куда пойти, но и как, какую тактику нужно применить в случае встречи с противником и т. д. В результате получался неуспех в боевых операциях.
Политотдел тогда занялся этим вопросом – в чём же крылась сущность этих организационных недостатков. Здесь пришлось заняться и Сушковым. Он был исключён из партии за то, что он игнорировал задания командования, за то, что он неправильно опирался на нездоровые элементы, в частности на начальника связи Шаповального[68], на человека с довольно тёмным прошлым. После решение об исключении из партии Сушкова было отменено, но я посадил туда тов. Матлахова, который и выправил там положение. Шаповального из полка убрали, а Сушкова заставили заниматься своим делом. Комиссара и командира научили командовать полком, не перекладывая всего на Сушкова, – и дело в полку пошло. Сразу вырос процент исправной материальной части, улучшилось дело и в отношении чёткости постановки задач.
Например, был один такой пример, когда нужно было сопровождать штурмовиков. Штурмовики пришли, сделали два круга около аэродрома и ушли. Но истребители не поднялись, мотивируя тем, что штурмовики сделали круг не над самым аэродромом, а в стороне. И здесь пришлось, как говорится, вправить людям мозги и заставить их изменить взгляд на вещи. Всё это в жизнь проводил Матлахов. А Волкову приходилось всё это переносить на своей спине, так как в такой обстановке нужно было вводить эскадрилью в бой и выполнять поставленные командованием задачи. Мастерство этого командира заключалось в том, что он умел разбираться в обстановке и правильно находить своё место. Был там снят и секретарь партийного бюро, как неспособный обеспечить партийное, большевистское руководство партийной организацией, не умеющей воспитать у партийного коллектива ответственности за свои действия[69].
Все эти меры дали нам возможность вывести полк на одно из лучших мест в 3-й воздушной армии, куда мы в то время входили.
История 521[-го] полка несколько своеобразна. Он был очень сильным полком до того, как из него был взят лучший лётный состав в 32[-й] гвардейский полк. Когда же оттуда были взяты такие люди, как КЛЕЩЁВ, БАБКОВ*, ВУС[С]*, БАКЛАН*, то положение его ухудшилось. Причём командир полка майор БОБРОВ* больших способностей к руководству полком не проявлял[70]. 7 августа [19]42 года полк был отправлен на переформирование[71].
Тур летней кампании [19]42 г. дивизия закончила 14 сентября [19]42 г. После этого дивизия была выведена на восстановление своих частей, как по линии лётного состава, так и материальной части.
За этот период боёв, проведённых в летний период, было дивизией сбито 108 самолётов противника[72].
У нас безвозвратных потерь было 13 человек. Потеряли мы таких лётчиков, как НУЯТОВА, ТИХОНОВА*, ПОКРОВСКОГО*, ТОЩЕВА. О 9 чел[овеках] мы никаких данных не имеем[73].
На восстановлении мы находились с 14 сентября по 9 ноября [19]42 г. За это время мы полностью укомплектовали и оттренировали свои полки: 1[-й] гвардейский, затем 5[-й] гвардейский, который нам тогда дали, 21[-й] и 163[-й] истребительные полки.
В начале ноября по приказу Ставки мы их отправили в тыл для получения материальной части. А потом они были направлены в состав других дивизий. Это были закалённые в боях полки, с которыми дивизия дралась весь летний период, которые вынесли тяжёлые, напряжённые бои.
9 ноября мы получили указание Ставки – принять 32[-й] гвардейский полк, 169[-й] и 19[-й] Краснознамённый полк. Таким образом, перед началом зимнего наступления Красной Армии мы получили три новых полка, причём 32[-й] полк имел очень сильный, прекрасный лётный состав.
Перед Управлением дивизии и, в частности, перед политотделом встала задача освоения этих полков, изучение их, задача передачи опыта 32[-го] полка 169[-му], так как последний ещё не имел никакого боевого опыта, за исключением 4 человек своего состава[74]. Нужно было научить молодой лётный состав боевым действиям, воспитать в нём мужество, отвагу, умение драться с наименьшими потерями. Причём условия были очень тяжёлые. Мы в это время находились на Калининском фронте – шла так наз[ываемая] Белийская операция. Вылетели мы туда 22 ноября [19]42 г. и сразу же, как только позволила метеосводка, приступили к боевой работе по обеспечению наступления 41[-й] Армии.
Во время боевой работы выявился ряд недостатков в 169[-м] полку. Недостатки заключались, во-первых, в том, что лётный состав пока не умел как следует ориентироваться. Во-вторых, слабо знал материальную часть, в-третьих, имел сравнительно небольшой налёт на таком типе самолёта (Ла-5). Они имели всего лишь до 8 часов налёта на этих машинах[75].
Поэтому и партийная организация, и политаппарат, и вообще все были подняты, были мобилизованы на ликвидацию этих недостатков, на повышение боеспособности полка. И можно прямо сказать, что здесь, в 169[-м] полку, партийная организация добилась больших результатов. В Белыйской операции выдвинулся такой лётчик, как ГРАЖДАНИНОВ, впоследствии Герой Советского Союза, отдавший свою жизнь за родину, прекрасный коммунист, вожак масс. Партийная организация воспитала немало прекрасных коммунистов и лётчиков. Партийную организацию в то время возглавлял[и] тов. ЩЕРБАКОВ* и тов. СИДОРОВ, и они с этой задачей справились очень хорошо, воспитали мужественных и смелых людей, так как если человек в своей жизни совершил два тарана[76], то это уже одно является свидетельством величайшей смелости и величайшей преданности делу партии.
Как мы ликвидировали недостатки, которые имелись в полку? Мы собрали партийный актив, где конкретно поставили вопросы о тех моментах, которые тормозили боевую работу. Здесь же намечались и конкретные мероприятия, которые способствовали ликвидации недостатков. И уже утром, если партийное собрание было ночью, партийный актив прямо с партийного собрания идёт в подразделения и принимается за работу по ликвидации отмеченных недостатков. Вот, например, по возвращении из боя было установлено, что дрались плохо по таким-то и таким-то причинам.
Собирается лётный состав, разбираются все эти причины. Например, сержант Пылилкин* проявил трусость, когда ему нужно было идти на Смоленск с [Т]у-2, и вернулся с поля боя. Через двое суток он был осуждён на 10 лет. Правда, он потом дрался очень хорошо и своей кровью искупил вину перед родиной. Во время теперешних июльских боёв он не вернулся с боя. Всю зиму он дрался как лев.
Такие решительные меры со стороны командира полка и большая работа командира дивизии, который лично разбирал все ошибки с лётным составом, и помогали им их изживать. Наш командир дивизии, полковник УХОВ – старый истребитель, имеет огромный боевой опыт, в своё время дрался в Испании, имеет там более 80 боевых вылетов, встречался, таким образом, ещё раньше с немцами. Работал и в школах в качестве начальника, и учился в Академии им. Жуковского. Всё это давало ему возможность обобщить теоретически тот огромнейший опыт, который он приобрёл. Со свойственной его натуре настойчивостью и энергичностью он сумел вложить личному составу стремление к такому совершенствованию. Он буквально не вылезал из землянок лётного состава, добивался от людей, чтобы они поняли то, чего он от них требует. Он разработал целый ряд указаний, как нужно вести бой, он требует, чтобы командиры полков учились руководству полками и учили бы лётный состав драться.
Всё это дало возможность 169[-му], а ныне 63[-му] гвардейскому, полку выйти в число передовых полков ВВС Красной Армии. Причём характерно, что если появляются какие-то признаки того, что в полку что-то не так, как он находит нужным, полковник Ухов немедленно, не считаясь ни с временем, ни с погодой, отправляется в полк и поворачивает дело так, как он считает нужным.
Я видел много командиров, я работал с такими людьми, как Юмашев*, Байдуков*, но такой энергии, как у Ухова, я ещё не видел. Это исключительно энергичный командир. А кроме того, он партийный товарищ. Вне политики и вне партии он не рассматривает вопроса, он рассуждает, как государственный деятель, всегда и во всех случаях. Вот почему он всегда имеет хорошие результаты работы.
была очень тяжёлая. Были сплошные метели, туманы, но операция требовала вылетов, невзирая ни на какую обстановку. Нужно было ввести в бой и 169[-й] полк, который и начал здесь свою боевую работу.
29 декабря [19]42 г. рано утром командир 169[-го] полка ИВАНОВ Николай Павлович повёл 12 Ла-5 на прикрытие наших войск. Выше шла группа ХОЛОДОВА – 12 самолётов[77]. Завязался воздушный бой. В этом бою лётчики 169[-го] полка, несмотря на свою молодость и неопытность, помня слова командира дивизии, которые являлись для них законом – бить противника на расстоянии 20 метров – сбили 12 Ю-87[78]. А всего в этот день они сбили 21 самолёт противника. Это был их первый серьёзный бой. Кстати говоря, в этот день Гражданинов сделал свой первый таран и сбил два самолёта, причём один таранил. Когда он прилетел, я как раз был на аэродроме. Я сразу не понял, что у него с машиной. Он подходит и так странно говорит:
– Я, кажется, товарищ полковник, таранил самолёт противника, потому что лопасти винта от краёв содраны, имеются вмятины в рёбрах.
Я говорю:
– Как таранил, а он упал?
– Упал.
– Тогда расскажите об этом подробно.
И мы заставили его подробно рассказать об его таране всему лётному составу. И партийная организация не прошла мимо этого случая. Немедленно был собран весь народ в полку, был проведён митинг, где был отмечен этот геройский поступок Гражданинова. Выдвинули лозунг – драться, как Гражданинов. Если пушка не берёт, то – таранить, как Гражданинов. В том бою лётчики 169[-го] полка сбили ещё 8 самолётов, а всего за день 21 самолёт.
А вечером мы ещё раз с командиром дивизии собрали полк и сказали – деритесь так, как дрались сегодня. За товарищеским боевым ужином мы их похвалили, люди действительно хорошо дрались. Часть людей была представлена к правительственным наградам. Мы пожелали им дальнейших успехов. Успехи были – до окончания Великолукской операции полк сбил 62 самолёта[79], а операция продолжалась примерно 18 дней, причём проходила она в очень тяжёлых для лётного состава условиях.
Командир полка ИВАНОВ сам сбил в этой операции 7 самолётов. У Иванова исключительно высокие качества как у командира полка, в частности, он прекрасно работает с молодым лётным составом. А нужно заметить, что в то время он сам не имел ещё боевого опыта[80], но всё же он сумел использовать своё лётное мастерство в нужном направлении, а его личное мужество и смелость помогали ему руководить вверенным ему лётным составом.
На земле он очень скромный человек и кажется даже застенчивым. В воздухе это человек исключительной воли. Если в воздухе складывается сложная обстановка, то он никогда не доверит никому руководство и обязательно идёт в таких случаях сам, независимо от того, большую или маленькую группу нужно вести, и сам уже разбирается в сложившейся обстановке. А если он сам не пошёл, прилетают лётчики и докладывают, что сложилась интересная воздушная обстановка, он начинает жалеть, почему он не пошёл сам. И вот такая напористость в разрешении сложной воздушной обстановки – это исключительная черта Иванова как командира. И я думаю, что это в большой доле содействовало успеху всего полка, т. е. он своими личными боевыми качествами сумел зажечь у лётного состава своего полка стремление бить противника наверняка.
Был такой случай. В полк был прислан лётчик ИСАЕВ[81]. Однажды, когда проходил разведчик противника, командование приказало вылететь, догнать и уничтожить разведчика. Исаев вылетел, не догнал и не уничтожил его. И когда командир дивизии полковник Ухов начал гонять Исаева – почему он не выполнил приказа, то Иванов переживал этот нагоняй сам так, как будто бы это была его личная вина, во всяком случае, больше, чем сам Исаев. Иванов мучился, почему он сам не полетел и не уничтожил разведчика. Впоследствии этот Исаев погиб геройской смертью.
Все эти черты Иванова и создают колоритную фигуру командира полка, боевого и серьёзного его руководителя.
После Великолукской операции о 169[-м] полку было известно далеко за пределами дивизии. Слава о нём как о прекрасном, храбром полке пошла по всему фронту. Мы с командиром дивизии дали в Москву после Великолукской операции шифровку и просили срочно доукомплектовать материальную часть 169[-го] полка. В Москве к этому отнеслись очень серьёзно и очень быстро доукомплектовали, а также дали 7 человек лётного состава. А 10 февраля [19]43 года мы были направлены на Демянскую операцию.
Здесь условия были ещё сложнее, чем на Великолукской операции. Во-первых, аэродромы только готовились к зимним условиям, и нужно было сделать их под колёса Ла-5. Во-вторых, в этом районе наш лётный состав ещё не летал. В-третьих, большая стабильность в этом районе противника, насыщенность его обороны создавали дополнительные трудности. В-четвёртых, для этой операции противник сюда перебросил 72-ю группу вольных охотников под командованием известного их аса Ганса Гаане[82], впоследствии сбитого нашими лётчиками. Об этом имеется, между прочим, статья в «Комсомольской правде».
Поэтому здесь пришлось драться с сильным противником не только по количеству, но и по качеству. Достаточно сказать, что эта 72-я немецкая группа была укомплектована лётным составом выпуска не моложе, чем выпуск [19]41 года, т. е. людьми, которые воевали уже в течение двух лет. Во-вторых, эта группа была укомплектована также провинившимися, штрафными лётчиками, которые искупали здесь свою вину. В-третьих, немецкие лётчики были посажены на лучшую в то время материальную часть Ме-109-Г2. У нас в то время были уже Ла-5. Причём раньше немцы считали, что это – самолёты американские типа «Бруствер», а они с нашими лётчиками на Ла-5 впервые столкнулись на Великолукской операции, тогда для них они были новостью, они ещё незнакомы были с их слабыми и сильными сторонами. Во время Демянской операции они уже знали наш самолёт, знали и его слабые места, что также усложнило нашу там работу.
Числа 14 февраля начались воздушные бои. В воздушных боях в Демянской операции 169[-й] полк сбил 36 самолётов противника[83]. Было два тарана – ИСАЕВА и ГРАЖДАНИНОВА, – во время таранов оба лётчика погибли[84]. Нужно сказать, что там мы потеряли, пожалуй, лучших своих лётчиков. Помимо Исаева и Гражданинова, из 32[-го] полка мы потеряли Героя Советского Союза ХОЛЬЗУНОВА[85], Героя Советского Союза АНИСКИНА[86], ГНАТЕНКО*, БАРАНОВСКОГО[87], там был ранен Герой Советского Союза КОВАЛЬ[88], Герой Советского Союза КОТОВ*.
Таким образом, ясно, что это были за бои, когда такие мастера воздушных боёв, как Хользунов, Анискин и т. д., имевшие сотни воздушных сражений и десятки сбитых самолётов, поплатились своей жизнью.
Противник там имел, как я уже сказал, хороший лётный состав, посаженный на хорошую материальную часть. Впоследствии он, усилив эту свою группу 54[-й] эскадрой в количестве 60 самолётов ФВ-190, во что бы то ни стало старался удержать своё господствующее положение в воздухе. И задача нашей дивизии заключалась в том, чтоб это господство удержать за собой. И ценой потери лучших людей мы всё же это господство отвоевали. 72-ю группу и вольных охотников мы растрепали всю в дым, и она была оттуда уведена, так как от её 60 самолётов ФВ почти ничего не осталось, а к концу операции они стали ходить уже парами и на больших высотах, на дальних дистанциях, т. е. боя уже, как правило, не принимали.
В этих боях дивизии отличались такие люди, как ХОЛОДОВ, ГАРАМ М., ЛУЦКИЙ, САВЕЛЬЕВ, ОРЕХОВ, ШИШКИН. Они обеспечили господство дивизии в воздухе, они не щадили в боях свою жизнь, они проявляли исключительное мастерство.
Был, например, такой случай. Наша группа под командованием Холодова была зажата группой Ме. Холодов не просто ушёл из боя. Он радирует: «Веду бой с численно превосходящим противником, прошу помощи». У нас на земле нет ничего, чем бы мы могли ему помочь, а потерять такого человека, как Холодов, – это равносильно потере группы людей. Мы должны были сделать всё, что только было возможно. Орехов сумел подготовить свой самолёт, но он – один. Холодов продолжает отходить на аэродром с боем. Самолёты противника продолжают на него наседать, видно: на горизонте идёт воздушный бой. Что делать? Приказываем Орехову подняться. Орехов поднялся. А у тех горючее на исходе. Значит, в воздухе остаётся только пара – Холодов и Макаров, да ещё поднялся Орехов. У Холодова на самолёте отказали обе пушки, стрелять он не может, значит, нужно вертеться, чтобы не сбили. Но это было уже над своим аэродромом. И вот на глазах противника нам удалось поднять ещё группу 4 самолёта. Холодов благополучно садится, а противник отходит, так как видит, что с земли поднимаются ещё 4 самолёта.
Какой-нибудь другой лётчик, не с таким мастерством, не с таким мужеством и хладнокровием, мог бы стать жертвой в этом бою. А Холодов использовал здесь всё своё мастерство, он был совершенно спокоен и хладнокровен, что помогло ему решить исход боя. Кроме того, Холодов исключительно ориентируется в обстановке, он всегда разгадает ход противника. Когда я встретился в первый раз с Холодовым, посмотрел на него – такой он невзрачный на вид человек, ничем он совершенно не выдавался, ничего особенного в нём не было. Но когда начались воздушные бои, Холодов показал себя, выявились все его способности. Это – колоссальная фигура в истребительной авиации. Он – не только мастер техники пилотирования на своём самолёте, но он отлично знает и самолёты противника, он следит за приёмами, за методами противника, и не только потому, что пишется об этом в газетах или журналах (кстати сказать, он очень много читает по всем авиационным вопросам), но он стремится сам познать, в чём же сущность приёмов противника. После каждого боя он старается вскрыть – так ли противник дрался, как в прошлый раз, а если есть что-нибудь новое, то Холодов обязательно это новое подметит и скажет, в чём оно заключается. Мне приходилось встречаться с такими лётчиками, которые десятки раз водили в бой свои самолёты и говорили, что ещё не видели крестов на самолётах противника, так как находились в очень большом напряжении. А Холодов – очень спокойный командир, он чувствует малейшее движение противника, которое тот только собирается ещё сделать.
И опять-таки, можно сказать, что во всех этих наших боевых операциях, в наших успехах большую роль сыграла партийная организация. Партия воспитывала таких людей, партия делала всё, чтобы направить людей по правильному пути, и наши люди дрались прекрасно.
Нужно сказать, что 32[-й] полк пришёл к нам с низкой дисциплиной. В полку были случаи пьянства, хулиганства со всеми связанными с этим последствиями. И когда мы приняли этот полк, то перед нами встала такая проблема – поставить полк в известные военные рамки, переломить у людей излишнюю самоуверенность, некоторое чванство и заставить, помимо всего прочего, совершенствовать своё мастерство. Нужно было иметь в виду, что командиром полка был человек – герой в боях, но с довольно низкой военной культурой – это Бабков. Поэтому внимание командира дивизии и всего нашего руководства было направлено к тому, чтобы в полку эти недостатки изжить, ликвидировать[89].
Например, бывали такие случаи. По приказу командования вылетает Герой Советского Союза Орехов с заданием уничтожить разведчика. Полетел, пострелял и вернулся. Садится. Почему не пошёл до конца и не сбил? Да вот подумаешь, дело! Ему было сказано, если ты получил приказ, то должен выполнить его любыми средствами. Это характеризовало отношение людей к приказам – что хочу, то и делаю. Я дерусь храбро, геройски, а победителей не судят, и обсуждать вопрос о нас никто не имеет права.
Тогда мы собрали партийный актив и предъявили к коммунистам требование – или полк будет в дальнейшем совершенствовать своё мастерство и множить свои успехи, или у нас будут с ними серьёзные разговоры, которые, может быть, поведут к осложнениям в наших отношениях. Мы вашу нажитую славу знаем и уважаем, но ограничиться ею, пока враг не сломлен, мы не можем. А перед нами ещё сильный враг, борьба с которым требует больших сил и жертв. После мы собрали командиров эскадрилий, их заместителей и с каждым из них разговаривали. К малейшим неточностям или нарушениям в выполнении наших приказов мы относились со всей серьёзностью и нетерпимостью, и это заставило людей коренным образом изменить свой взгляд на вещи. Они поняли, что ничего им не поможет, что в этой дивизии людей уважают только тогда, когда они выполняют приказ. Мы их хвалили, но и говорили, что вы имеете серьёзные боевые традиции, но имеете и ряд серьёзных недостатков, с которыми полк в дальнейшем не может работать. И люди всё это поняли. Они поняли, чего от них хочет командир дивизии, и коренным образом изменили своё отношение к делу. Такие люди, как Холодов, как Гарам, они повернули наиболее круто. ГАРАМ – это молодой, но не по годам серьёзный человек. А главное, было хорошо то, что всё это понял и сам командир полка Бабков, который был там командиром после Клещёва. Клещёв – исключительный человек и по своим боевым качествам, и как вожак. Народ его чрезвычайно любил. Но он не был организатором, не был руководителем. И как командир полка он был бледной фигурой. БАБКОВ пользовался большим авторитетом среди своего лётного состава, и он постепенно эту ненужную шелуху удалил. Полк работал прекрасно.
НА ИРИ РАН. Ф. 2. Р. I. Оп. 79. Д. 2. Л. 15–25.
49
Так в тексте. По документам – 1902 г.
50
Советско-финляндская война (30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.). Имела тяжёлый для Красной армии характер, но завершилась победой СССР и присоединением ряда территорий на Карельском перешейке и в Карелии, утраченных Советской Россией после революции. Сопровождалась активным применением авиации обеими сторонами (разумеется, соответственно их возможностям и размеру авиационных группировок).
51
Освободительный поход Красной армии (17–29 сентября 1939 г.) – вступление советских войск в западнобелорусские и западноукраинские земли Польши. По причине того, что польская армия почти не оказывала нашим войскам сопротивления, сопровождался незначительными боевыми действиями. Занятые территории вошли в состав СССР (включены в УССР и БССР). 28 сентября 1939 г. был подписан советско-германский договор «О дружбе и границах», установивший западную границу СССР примерно в соответствии с линией Керзона (рубежом, рекомендованным в 1919 г. Верховным советом Антанты в качестве восточной границы Польши). Запад признал присоединение в 1945 г. С исторической точки зрения поход действительно был освободительным, по крайней мере в отношении западнобелорусских земель и Волыни (российских территорий, захваченных во время Гражданской войны Польшей и присоединённых к ней по Рижскому миру 1921 г.).
52
В стенограммах его фамилия написана через «о».
53
12 июля 1942 г. из Качинской авиашколы прибыло 10 человек лётного состава: лейтенант Варнавский А.Н. на должность командира звена, старший сержант Пидрез П.Я. и сержанты Калиниченко Г.Я., Лапшенков Н.Ф., Михальченко С.К., Нещадим А.К., Расчепляев А.И., Редигер Л.С., Рыбаков Г.И., Сулаев Б.А. – на должности пилотов. ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 2. Д. 1. Л. 18.
54
Речь идёт о М.А. Елпидине*.
55
Так в тексте. Правильно – Зенкин*.
56
В оперативной сводке штаба 210-й иад отмечен один Ме-109, сбитый Тощевым в паре со старшим лейтенантом Забегайло. В документах полка победа записана троим лётчикам (см. УБС).
57
Андрей Ильич перепутал. То, о чём он рассказал, произошло не с Пантюховым (он вышел к своим уже 13 июля), а с его однополчанином, младшим лейтенантом Полеохой*. Он не вернулся с боевого задания в тот же день, что и Пантюхов, 10 июля. Его Як был подбит, лётчик получил ранение и приземлился на вражеской территории. Он встретился с партизанами и после выздоровления участвовал в нескольких операциях (налёте на штаб немецкой пехотной дивизии, подрыве моста). 12 сентября был переправлен через линию фронта и 30 сентября прибыл в полк. Был представлен к ордену Красного Знамени, но награждён орденом Отечественной войны I степени.
58
Отточия в тексте.
59
Неосвобождённый секретарь исполнял одновременно и свои прямые служебные (профессиональные) обязанности, и вёл партийную работу. В отличие от него освобождённый секретарь занимался только партийной работой (что и являлось его служебными обязанностями).
60
Имеется в виду старший врач 163-го иап Ф.Ф. Галушкин. См. стенограмму Д.А. Матлахова.
61
Здесь и далее: так в тексте.
62
Очевидно, имеются в виду следующие документы. Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» № 227 от 28 июля 1942 г. Приказ НКО СССР «Об установлении понятия боевого вылета для истребителей» № 0685 от 9 сентября 1942 г. Директива Ставки Верховного главнокомандования командующим войсками Западного и Калининского фронтов Г.К. Жукову и И.С. Коневу № 170549 от 4 августа 1942 г.
63
Андрей Ильич ошибся: покончил жизнь самоубийством не Петров, а другой комэск – Антонов*. А судьба Петрова* была иной.
64
Перепутаны фамилии. Андрей Ильич имел в виду лётчика Кутового (о нём см. стенограмму Д.А. Матлахова). А Кутьков в 163-м иап действительно служил, но он был не лётчиком.
65
См. выше.
66
Описанные события произошли 9 августа 1942 г. Согласно оперативной сводке штаба дивизии, утром в 5.45—7.02 (по «Отчёту о боевой работе 210 иад за август» – в 6.45) 5 Як-1 163-го иап во главе с командиром эскадрильи капитаном Волковым осуществляли прикрытие переправы через реку Вазуза. В ходе вылета была встречена группа самолётов противника численностью до 20 Ю-88 (в «Отчёте» – 8) и 8—12 Ме-109. Яки атаковали бомбардировщиков. В первой атаке Волков и Котюков подожгли один Ю-88, который пошёл со снижением и попытался сбить пламя. Тогда Котюков догнал его и добил. «Юнкерс» упал южнее Зубцова. Но затем наша группа была уничтожена. Три «Мессершмитта» подожгли мотор самолёта Волкова. Лётчик выпрыгнул с парашютом, получив ожоги рук и ног второй степени и выбыл из строя почти на три недели. Проходил лечение в лазарете и санатории при 70-м БАО и вернулся в полк 28 августа. Также мессеры зажали и подожгли самолёт Шаройко. Лётчик дотянул до аэродрома Торжок и приземлился там. Як сгорел, но Шаройко остался невредим. Но были и потери в людях: старший лейтенант Покровский погиб, а сержант Никулин не вернулся из боя. Единственным, кому удалось относительно благополучно вернуться из того вылета, был Котюков (у него сорвало козырёк фонаря кабины, и он вышел из боя). В «Отчёте о боевой работе» дивизии этот бой приводился как пример неудачных действий истребителей. Главную причину усмотрели в неправильной организации группы: атаку бомбардировщиков произвели сразу всей пятёркой, командир не оставил пару для прикрытия и связывания боем истребителей противника. Как следует из текста, Волков сделал из этого боя правильные выводы. ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 1. Д. 6. Л. 58 об.; Д. 8. Л. 56 об.; Оп. 2. Д. 5. Л. 32 об. – 33, 43.
67
Так в тексте. Правильно – Сушко*. Возможно, у командования и политотдела дивизии поначалу имелись причины для недовольства его работой и положением дел в полку (боевая судьба не бывает ровной). Но в полковых документах подчёркивались командирские навыки и храбрость «пламенного патриота своей части» Сушко. Так, в отсутствие командира он сумел вывести полк из окружения (1941); организованно действовал при налёте вражеской авиации на эшелон, в котором находился личный состав, и при этом вёл огонь по самолётам противника из винтовки. ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 1. Д. 58. Л. 5; Ф. 163 иап. Оп. 558029. Д. 2. Л. 80, 93; Оп. 558031. Д. 1. Л. 11.
68
Здесь и далее – так в тексте. Правильно – Шаповаленко*.
69
Личность человека пока установить не удалось.
70
Майор Бобров был опытным лётчиком. На 2 июля 1942 г. на его счету значилось 255 боевых вылетов, 5 личных и 9 групповых побед (на деле чуть больше). Другой вопрос, насколько высокими в тот период были его командирские качества.
71
Полк убыл в 5-й утап 14 августа. ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 1. Д. 6. Л. 59.
72
Согласно месячным «Отчётам о боевой работе 210 иад» в июне 1942 г. дивизией было сбито 2 самолёта (оба – Ме-109). В июле – 7 (Ю-88, 4 Ме-109, 2 Хш-126). Оперативные сводки по июльским победам дают несколько иную информацию: 3 Ю-88 и 4 Ме-109. А «Отчёт штаба 210 иад о боевой и разведывательной деятельности ВВС противника за июль м-ц» упоминает и об одном подбитом Ю-88 (возможно, в оперативных сводках он проходит как сбитый). В августе лётчики дивизии сбили 104 вражеских самолёта: 53 Ме-109ф, 14 Ме-109, «ФВ-198», ФВ-189, 24 Ю-88, 5 Ю-87, 2 Хе-111, До-215, До-217 (в оперсводках указан как До-17), 2 Хш-126. Ещё восемь отмечены как подбитые (2 Ме-109ф, 5 Ю-88, «До-29»). И наконец, в сентябре одержана одна победа (Ме-109). Таким образом, всего 210-я иад уничтожила 114 самолётов противника и ещё 8 или 9 подбила. Среди сбитых 34 бомбардировщика, 74 истребителя и 6 прочих (к ним отнесён и «ФВ-198»). ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 1. Д. 8. Л. 5, 25, 67, 69; Д. 9. Л. 28 об.
73
В период летних боёв (июль – первые дни сентября) 1942 г. 1-й гиап безвозвратно потерял 11 лётчиков. Погибли капитан В.М. Тощев, старший лейтенант И.Г. Сидоркин и сержант И.П. Нуятов. Не вернулись с боевого задания старшие лейтенанты С.И. Жуйков, С.И. Рыбалкин, младшие лейтенанты В.А. Полеоха (Полиоха), И.П. Тихонов, старшина М.Ф. Косенко и сержант И.С. Дахно. Сержант П.Я. Пидрез был сбит зенитным огнём и выпрыгнул с парашютом над территорией противника, далее его следы теряются. И ещё один – майор Н.Е. Антонов – застрелился. 163-й иап безвозвратно потерял 7 человек. Погибли старший лейтенант А.В. Покровский и младший лейтенант А.М. Гурьев (он выпрыгнул с парашютом и был расстрелян немецкими истребителями при приземлении). Не вернулись с боевого задания старшие лейтенанты А.К. Большаков, С.И. Котюков и И.А. Шаройко, лейтенант А.М. Никулин и сержант Н.Я. Крахмаль. 521-й иап потерял одного лётчика: лейтенанта А.Н. Варнавского, погибшего в авиакатастрофе (небоевая потеря). Безвозвратные потери 521-го иап оказались невысоки (хотя несколько пилотов были сбиты и ранены) потому, что он действовал менее интенсивно, чем другие полки, а вскоре убыл в тыл. Оставшиеся в строю лётчики вошли в боевые расчёты «братских» полков. Итого дивизия потеряла погибшими 5 и не вернувшимися с боевого задания 12 лётчиков, то есть 17 человек. Плюс две небоевые потери. Однако из этих 17 человек трое – Котюков, Шаройко и Полеоха – остались живы. Первые двое попали в плен и вернулись после войны, а Полеоха прибыл в полк уже 30 сентября. ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 2. Д. 3. Л. 147; Д. 5. Л. 1 об. – 6 об.
74
На самом деле боевой опыт был у 14 лётчиков. Двое имели на своём счету свыше 200 боевых вылетов, четверо – свыше 100, ещё у восьмерых было от 5 до 50 вылетов. ЦАМО РФ. Ф. 63 гиап. Оп. 245843. Д. 23. Л. 1 об.—2.
75
Налёт на Ла-5 действительно был незначительный. Из 39 лётчиков только у восьми он превышал 8 часов, притом у пятерых ненамного, составляя от 8 до 10 с половиной часов. Лишь у троих он был немного больше. Лейтенант Гражданинов имел 24 ч 56 мин налёта на Ла-5 (36 полётов), лейтенант Романов – 25 ч 25 мин (34 полёта), и старший лейтенант Гаврилов – 28 ч 11 мин (39 полётов). Меньше всего налёта на «Лавочкиных» было у старшего сержанта Пылилкина (42 мин), лейтенанта Запорожченко (1 ч 15 мин), замполита майора Еремеева (2 ч) и майора Иванова (2 ч 55 мин). ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 2. Д. 3. Л. 180.
76
Два тарана никто из лётчиков полка не совершал. Вероятно, Андрей Ильич имел в виду таран Гражданинова. 29 декабря 1942 г. лётчик действительно в одном бою сбил два бомбардировщика, первого – тараном, а второго огнём из пушек.
77
Из 32-го гиап.
78
См. стенограмму В.П. Ухова.
79
По итогам «зимнего тура» 1942–1943 гг. счёт 169-го иап пополнился 88 победами. На Белыйском направлении (декабрь 1942 г.) было сбито 12 самолётов (из них 3 бомбардировщика). На Великолукском направлении (26 декабря – 27 января) – 48 самолётов, из которых уже 23 бомбардировщика и 2 транспортных. В районе Демянска и Старой Руссы (18 февраля – 15 марта) ещё 28 (6 бомбардировщиков). ЦАМО РФ. Ф. 63 гиап. Оп. 245843. Д. 23. Л. 9 об. – 10.
80
Имел, но небольшой – 26 боевых вылетов. ЦАМО РФ. Ф. 3 гиад. Оп. 2. Д. 3. Л. 180.
81
О нём см. Вторую стенограмму Н.И. Сидорова.
82
Здесь и ниже: номер группы не соответствует действительности. Речь идёт о 54-й истребительной эскадре и командире её 2-й группы Г. Гаане. О нём см. там же.
83
См. выше.
84
Исаев погиб при таране самолёта противника. А Гражданинов погиб не при таране.
85
О нём см. стенограмму В.А. Луцкого.
86
О нём см. стенограмму Н.Ф. Горшкова.
87
О нём см. стенограмму А.С. Макарова.
88
О нём см. стенограмму И.М. Холодова.
89
Подобная ситуация (с состоянием дисциплины) позже сложилась и в другом полку, которым командовал Василий Петрович, – в 88-м гиап, за что в конце декабря 1944 г. он был снят с должности. ЦАМО РФ. Ф. 8 гиад. Оп. 1. Д. 35. Л. 408–433, 445.