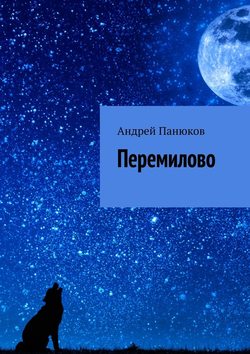Читать книгу Перемилово - Андрей Панюков - Страница 6
Глава 5. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ ФОТОГРАФИЯ НЕЗНАКОМКИ
ОглавлениеНаутро, после вкусного завтрака, близнецы решили расспросить дедушку и бабушку о Федьке Клыке.
– Только давай не вместе, а по отдельности, – предложила Маша. – Ты спросишь дедушку, а я бабушку. А то, если мы будем спрашивать вместе, они удивятся и пристанут к нам с вопросами. Врать мне совсем не хочется, а в то, что случилось, они всё равно не поверят.
– Хорошо, – согласился Веня. – Дедушка как раз собирается качать воду на огород, и я заодно ему помогу.
– Ну а я помогу бабушке с готовкой, и расспрошу её обо всём, что ей известно про Теодора.
– Не про Теодора, а про Федьку Клыка. И постарайся не проговориться.
– Не беспокойся, братец, – сестра скорчила Вене рожицу и побежала на кухню помочь резать помидоры и огурцы для салата. Бабушка варила вкусный гороховый суп. Пока они болтали о том о сём, Маша соображала, как бы спросить о Федьке, но тут разговор сам повернул в нужное русло.
– Наше Ефремово – деревня старая, люди здесь испокон веков жили, – напевно говорила бабушка, помешивая суп; она любила рассказывать что-нибудь про старину, и это получалось у неё так интересно, что дети обычно слушали раскрыв рты. – Когда-то наша деревня и соседнее село Ефаново принадлежали одному знатному боярину. Только в те времена они по-другому назывались, а как – никто не помнит. И было у того боярина два сына, Ефрем и Ефан. И вот когда боярин тот умер, то одному сыну досталось одно село, и назвали его Ефаново, а второму – наша деревня, которую назвали Ефремово. Жили в Ефремово несколько десятков семей, а уж фамилий-то и того меньше: Гаврилины, Блохины, Акимовы, Золотовы, Багровы, Минеевы, Ганюшкины, Рюнины, Варламовы, Королёвы, Шероновы, Цениловы, Барышевы, Зепаевы, Спиридоновы, Андриановы, Осиповы… Всех, что ль, назвала или забыла кого?
– Клыковы, – подсказала Маша.
– Клыковы? – засмеялась бабушка. – Вот уж нет! Клыковых тут не было.
– А Федька Клык?
– Федька Клык, – сказала бабушка, чуть нахмурившись, – не ефремовский.
– А чей?
– А кто его знает? Его отец с матерью здесь ещё до войны поселились, а откуда они взялись, никто не знает. Моя матушка – твоя прабабка Матрена – сказывала, что вроде как откуда-то с Севера сюда приехали. А уж правда или нет, не знаю. Не больно-то они любили про себя рассказывать. Время такое было, языком болтать много не давали.
Бабушка умолкла и задумалась. Её руки ловко шинковали капусту для салата. Маша затаила дыхание: она знала, что сейчас бабушка продолжит свой рассказ.
– Странные они люди, Клыковы. Жили сами по себе, и в доме у них никто не бывал. Отец Федькин, звали его Исидор, страшный человек был, многие его боялись.
– Страшный? – переспросила Маша испуганно. – Это почему?
– Ну, может, и не страшный, – смущённо поправилась бабушка, – но какой-то он тёмный был, себе на уме. Многие считали, что вообще колдун, – рассмеялась бабушка, но Маша поняла: она говорит серьёзно.
– А почему колдун? – спросила она.
– Да так, мало ли что народ болтает да выдумывает, – отмахнулась бабушка, но желание поделиться какими-то воспоминаниями пересилило, и она продолжила:
– Лесником он был, Исидор-то покойный. Весь день в лесу пропадал, на деревне его почти не видели. Странный был, ни с кем не сходился. Про него много слухов ходило разных, вот люди и решили себе, что он вроде как колдун. Хотя, конечно, было с чего – я как вспомню ту встречу в лесу, меня по сей день в дрожь бросает.
– Расскажи, ба! – попросила Маша и вся обратилась в слух.
Бабушка помолчала немного, попробовала суп, добавила в него щепотку соли, вздохнула и повела свой рассказ дальше.
– Мы с Василиской, сестрой моей двоюродной, царство ей небесное, пошли как-то в Большой лес за земляникой. Вырубка там была славная, а на вырубках ягода страсть как растёт. Встали рано, встретились за Кулановым прудом и пошли через поле в лес. Перед войной это было, как сейчас помню, последнее предвоенное лето. Василиса вечером ко мне прибежала. «Пойдём, – говорит, – завтра за земляникой, да я тебе расскажу кое-что». А сама раскрасневшаяся, цветёт как маков цвет. Что же такое, думаю, она мне расскажет? Влюбилась, что ли, в кого? Я всё гадала тогда – то ли в Сашку-тракториста, то ли в фельдшерова сына, Кольку.
«Не тяни, – говорю, – сказывай кто». – «Что „кто“?» – спрашивает, а сама краснеет. «Ой, – говорю, – что ты мне тут дурочку ломаешь, ты на себя в зеркало посмотри! Ну, – говорю, – кто он?» Василиска-то засмеялась весело и на ухо мне: «Федя Клыков». У меня от изумления глаза на лоб. «Ты что же, шутки шутишь?» – «Нет, – отвечает, – не шучу». – «Да нет, – говорю, – парень-то он, конечно, хоть куда, да только что за семья-то у них – колдун да знахарка».
– Знахарка? – удивилась Маша.
– Матушка его, Серафима Игнатьевна Клыкова, знатно людей врачевала. Дар у неё был. Не только у нас в деревне, во всей округе знали – ежели какая болезнь, что врачи вылечить не в силах, зови Серафиму Клыкову, а коль она не поможет, то уж и никто не спасёт. А кроме как к больному её и не звали никогда: была она под стать мужу нелюдима, на человека смотрит, словно насквозь просвечивает. Если звали, однако, никому не отказывала, хоть днём, хоть ночью. А сколько людей она с того света вытащила! И всё равно не любили мы их, Клыковых-старших. Федор-то был другой, не их поля ягода. Это он теперь старый да увечный, а в молодости первеющий парень во всей округе был – умный, красивый, любая работа в руках горела. Совсем не в родителей пошёл. Многие не прочь были бы его своим зятем видеть, да только родниться с Клыковыми ни у кого желания не было.
Поохала я, да смотрю – дело далеко зашло. Любили они друг дружку, но от всех скрывали, не хотели, чтобы слухи по деревне пошли и дошли до родителей. Василиса с меня клятву взяла, что никому не скажу. Да я бы и так никому, самая ведь она родная мне была, Василиса-то.
Бабушка на минуту замолчала и промокнула платочком глаза.
– А что дальше, бабушка? – шёпотом спросила Маша.
– А дальше идём мы с ней по лесу, а она счастливая такая, соловьём разливается, как птичка щебечет. «Всё равно, – говорит, – поженимся, а родители, что ж, свыкнутся». А мне всё чудится, будто ходит кто-то рядом да смотрит из-за деревьев. Я вполуха Василису слушаю, а сама силюсь понять, мерещится мне или взаправду кто бродит по лесу. И тревожно мне как-то. Василиска же ничего не замечает, всё про свою любовь мне рассказывает. Порешили, мол, они с Федей, что если родители согласия на брак не дадут, уедут они в город, а то, глядишь, и в саму Москву.
Выходим мы на полянку, а солнце-то сбоку светило, и вижу я, что аккурат где можжевеловый куст, тень человеческая падает – будто стоит там кто-то. Я Василису за руку схватила и на куст показываю, а сама обмерла вся и слова сказать не могу. А Василиска, она смелая была. «Что прячешься? – крикнула, побледнев. – Выдь, покажись! Иль боишься чего?» Тут солнце за тучи зашло, стало сумрачно, а когда через минуту выглянуло, то тени там уже не было. Исчезла. И ни веточка не шелохнулась. Кинулись мы с ней бежать, а как влетели в подлесок, давай смеяться: вот, мол, какой-то тени испугались.
И трёх дней не прошло – занедужила моя Василиса. Сначала вроде как простуда обычная, а с каждым днём всё хуже и хуже. Врач из города приезжал, прописал лекарства, а не помогают. Тает моя сестрёнка, будто сглазили. Фёдор каждый день у неё хлопотал, да чем он поможет-то?
Делать нечего. «Вот что, Вера, – говорит мне Василискин отец, дядя Миша, – ступай к Серафиме Клыковой, попроси её, пусть придёт Василисе помочь». Прихожу я к дому Клыковых, зову. Слава богу, она вышла, а не Исидор. «Тётя Сим, – говорю, – Василиске нашей худо, сходили б, посмотрели, отец её с матушкой Вас просят». Молчит, а глаза из-под чёрного платка огнём горят. Долго молчала. Я стою, ни жива ни мертва. «Ступай, – говорит, – скажи, что Серафима Клыкова не поможет». Я так и ахнула: «Да как же так, тёть Сим!», а она: «Ступай!», мол. Сама глаза вниз опустила и в пол смотрит. Потом повернулась и ушла в дом. Я к Василиске прибежала, плачу, давай дяде Мише сказывать. Он мне наказал матери ничего не говорить, а сам пошёл к Клыковым. Вернулся скоро, мрачнее тучи. Что уж там у них было – не знаю, но и ему, видать, Серафима отказала.
Перепугались мы все, конечно. Одна Василиска носа не вешала. «Ничего, – говорит, – перемогусь». Федя-то каждый день у неё, как с работы придёт, так сразу к ней. Долго болела моя Василиса, но, слава богу, на поправку пошла. К зиме вставать начала, а к Рождеству уже гулять стала, хоть и недалеко. Да и куда ходить-то – зима.
А потом, как с Фёдором беда случилась (я тебе эту историю рассказывала, когда пропал он), Василиса опять слегла. В феврале это было. Искали его, искали, да не нашли. Никто уж и не надеялся. Одна сестра моя верила. «Он вернётся, я знаю» – всё твердила. А через неделю, как Фёдор пропал, Серафима Клыкова сама к Василиске пришла. Сосед, дядя Вася Моряков, видал. Родителей её дома не было, и о чём они говорили, никто не знает, а Василиса не рассказывала. Только после этого спокойной какой-то стала, всё улыбается и молчит. Думали, опоила её чем проклятая колдунья. Да только на другой день и спрашивать стало не с кого: этой же ночью сгорел дом Клыковых вместе с хозяевами, упокой господь их души.
– Сгорел? – охнула Маша. – Это как же?
– Кто ж его знает? Всё дотла выгорело, и костей не нашли.
– А что, искали?
– А как же, как водится. То, что от дома осталось, баграми растащили. Да там, почитай, ничего и не осталось. Пожар-то ночью случился, да и дом их на отшибе стоял. Пока хватились, а там уж догорает. Как загорелось, отчего – никто не видел, дело тёмное. Милиционер из города приезжал, ходил, опрашивал, да никто толком ничего не знает.
– А Василиса?
– Василиса от всего этого в беспамятство впала, отец её на следующий день в город увёз, в больницу, – на глаза у бабушки навернулись слёзы, а у Маши противно защипало в носу, и в горле застрял ком – вот-вот разревётся. – Вот так мы с ней и расстались, с Василисой моей.
Бабушка горестно вздохнула, вытерла слёзы платочком и продолжила рассказ:
– В больнице её, конечно, выходили. А как Фёдор нашёлся, отец Василискин, Михал Лукич, строго-настрого мне запретил ей сообщать. Мол, не пара он ей. Да, честно признаться, Федора-то как подменили: что страшный да увечный, то ладно, а вот в душе другой – это да. Угрюмый стал, как его отец, людей чурается, глаза горят исподлобья, вроде как умом сдвинулся. Вот, думаю, увидит его Василиса и что? Она-то другого Фёдора любила. Выйдет за него замуж из жалости и будет всю жизнь мучиться, что же хорошего? Ну я и согрешила, ничего ей не написала, хотя и обещала. Думала, так оно лучше будет. Да и Фёдор с ней встречи не искал. Узнал, что в городе она, сник и даже не спросил адреса.
Весна прошла, лето началось, а тут война. Василису в первые же дни мобилизовали на фронт, она ведь в городе на медсестру училась, ну её и бросили, да в самое пекло. Только одно письмо родители и получили: написала она, что их эшелоном отправляют на фронт. А пришло то письмо через три месяца, в один день с похоронкой на неё. Видать, блуждало где-то, а потом одновременно всё и принесли.
Тут Маша не выдержала, прижалась к бабушке и, не в силах больше вынести душивших её слёз, разрыдалась. Так они и плакали обе, обнявшись, – бабушка и внучка. Маша думала, почему же жизнь так несправедлива, а бабушка – о том, что если бы не война проклятая, то всё сложилось бы совсем иначе, и Василиса, сестра её любимая, была бы сейчас рядом.
– Будет, будет, доченька, – бабушка погладила всхлипывающую внучку по голове. – Ты иди-ка умойся, а как вернёшься, я тебе кое-что покажу.
Маша пошла в коридор, где висел рукомойник, умылась холодной водой и, немного успокоившись, вернулась в комнату. Рассказ произвёл на неё большое впечатление.
Бабушка сидела на кровати и держала на коленях огромный и явно тяжёлый фотоальбом. Она открыла его и стала неторопливо перелистывать страницы, иногда задерживаясь на какой-то фотографии. Фото были чёрно-белые, часто какого-то странного – то коричневого, то зеленоватого – оттенка. Маша уже смотрела этот альбом раньше, здесь хранились семейные фотографии. Они были расположены в хронологическом порядке: от самых старых к более современным. В начале альбома шли несколько фотографий ещё прошлого века, с указанием названия фотомастерской, где они были сделаны. На одной было запечатлено целое крестьянское семейство. В центре сидели бородатый мужчина и женщина в платке – у них и у всех остальных на фото были серьёзные и напряжённые взгляды.
– Это дед мой, Иван Ахромеевич Гаврилин, – пояснила бабушка, заметив Машину улыбку. – Тогда фотография редкостью была и стоила дорого, нужно было специально ехать в город и заплатить немалые деньги. Но семейство наше крепкое было, зажиточное, могли себе и сфотографироваться позволить. А крайний справа – батюшка мой, Николай Иванович, твой прадед. – Бабушка показала на невысокого мальчика лет десяти, с немного ошалевшим выражением лица.
– Это ещё дореволюционные, – сообщила бабушка, – а вот и довоенные пошли. Где же она? Я ведь тебе хотела фотографию Василисы показать. Она прислала её в своём первом и последнем письме с фронта.
Бабушка перевернула страницу, и Маша увидела фото той самой незнакомки, фотографию которой они с Веней рассматривали в доме Федьки Клыка.