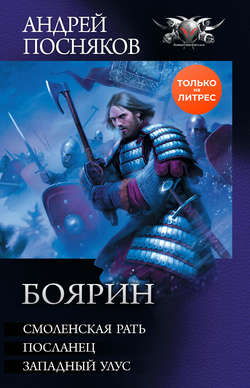Читать книгу Боярин: Смоленская рать. Посланец. Западный улус - Андрей Посняков - Страница 10
Смоленская рать
Глава 9
Рать
ОглавлениеДекабрь 1240 – январь 1241 г. Смоленское княжество
Хмурое низкое небо сыпало мокрым снегом, липким и мелким, словно манная крупа. Близилось Рождество, но праздника вовсе не чувствовалось, может быть, потому что за городом, даже в ближней округе, люди по-прежнему оставались полуязычниками, верящими в домовых, леших, русалок и даже в старых богов – Перуна, Даждьбога, Велеса. Великий киевский князь Владимир Красно Солнышко и его соратники приняли христианство больше двух с половиной веков назад, постепенно крестились и жители городов – купцы, ремесленники, воины, что же касаемо сельской местности, где проживало подавляющее большинство, то там и по сию пору еще бродили по дорогам и весям волхвы, справлялись древние праздники, приносились жертвы богам – иногда даже и человеческие. Еще сохранялись по урочищам капища, вовсе не страдая от отсутствия паствы, еще почитались священные источники, рощи, деревья. Одно такое дерево – высокий, украшенный разноцветными ленточками дуб, как раз и стоял совсем недалеко от дороги, рядом с родником, к которому вела старательно вычищенная от снега тропинка.
Там и устроили привал: молодой заболотский боярин Павел и его люди – Митоха и Окулко-кат. Впрочем, Митоху вряд ли можно было назвать чьим-то человеком – наемники, перекати-поле, хучи-кучи-мэн. То к одному господину прибьется, то к другому: там – добыча, тут – жалованье – так воинским своим уменьем и жил.
Иное дело Окулко – рядович, как и тиун. Служил по договору – ряду – господина почитал, но и права свои знал.
И все же – оба они показали сейчас свою верность: все же дождались, не уехали, встретив обретшего свободу боярина у ворот детинца. А могли б и не встретить! И сами могли б загреметь, попасть под раздачу. Если б не князь Аскал, если б не татары, кои – по слухам – рыскали где-то в восточных пределах княжества. И – самое главное – если б не помощь молодшего князя Михайлы. А князь Михайла был заинтересован в опытных воинах, и сейчас, в преддверье страшных битв – как никогда.
Нужно было послужить не только князю, но и новой родине, да и сохранить свое положение, усадьбу свою, вотчину – отнюдь не мешало бы, вдруг да ничего не получится с резонансом? Такое ведь может быть. Пятьдесят на пятьдесят, как ученый-экспериментатор Ремезов хорошо понимал это. А потому – загодя просчитывал сразу несколько вариантов, вплоть до самых худших, ибо таковые вполне могли иметь место быть – на вотчину всерьез претендовали родные сволочуги-братья, на все остальные землицы – завидущий сосед, боярин Онфим «Битый Зад» Телятников. Со всеми приходилось держать ухо востро, особенно – с братьями, те, конечно, прямо бы не сунулись, устроили б интригу, каверзу, как вот совсем недавно. Ишь ты, в предательстве обвинили, надо же, догадались!
– Господине, едет кто-то! – бросив в снег рыбьи кости, насторожился Окулко-кат.
Митоха тоже прислушался:
– Всадники… Человек с дюжину, может, чуть более. Что, боярин – в лес?
– Нет! – дернул головой молодой человек. – Найдут по следам – обязательно вызовем подозрение. Да и кому тут сейчас ехать-то? Разбойникам-лиходеям? Навряд ли, места кругом не богатые – не торговый путь.
– Ты, боярин, прав, – подумав, согласился наемник. – Скорее, это Всеволода-князя люди. А едут – зачем и мы. Войско, рать сбирают!
Митоха как в воду глядел, не прошло и пары минут, как на полянку вынеслись всадники, числом около пары десятков. На сытых конях, оружные, только что без кольчуг, зато в богатых кафтанах и полушубках. Главный – широкоплечий мужчина с окладистой светло-русою бородой – поправив соболью шапку, поворотил коня к спокойно дожидавшейся у дуба троице:
– Каковы будете, добрые люди?
– Язм – заболотский боярин Павел, Петра Ремеза покойного сын, а это…
Не дослушав, незнакомец махнул рукой и приветливо улыбнулся:
– Ну, здрав будь, заболотский боярин Павел! Много о тебе слыхал. А язм – Козьма Ильин, средней руци воевода.
Подъехав ближе, Козьма Ильин спешился и протянул руку:
– Рад знакомству. Рад!
– А это мои люди, – с облегченной улыбкой Ремезов кивнул на Окулку с Митохой.
Не чинясь, воевода поручкался и с ними, а потом, повернувшись к Павлу, спросил:
– Сейчас к себе в Зоболотье, небось, скачешь?
– К себе, – кивнул молодой человек, – Рать соберу – да в Смоленск, к князю.
– То верное дело, – Козьма тряхнул бородой. – А мы по порученью княжьему отступников имаем. Мнози похощат в лесах отсидеться, мунгалов да татар пережить. Вот таких «сидней» и имать велено, да на правеж их, на правеж!
– И поделом, – согласился Павел. – А то что это получается, кто-то воюет, землю родную от супостата бережет, а кто-то – за лесами отсиживается! Вы-то куда сейчас, может – по пути, так вместе поедем?
Воевода шмыгнул носом и усмехнулся:
– Не боярин, нам в твоим болотам не по пути, мы – в залесье, ужо расшевелим «сидней».
– Ну, Бог в помощь.
– И вам… – перекрестившись на украшенный ленточками дуб, княжий посланец легко взметнулся в седло и махнул своим людям рукою. – Эй, эй, поехали! Удачи тебе, боярин, может, еще свидимся!
– И вам удачи… Татары-то далеко?
Козьма обернулся в седле:
– Да недалече уже – на Ростиславльском шляхе видели. Дней пяток – и у нас будут. Так что поторапливайся, боярин Павел, поторапливайся!
Гикнув, воевода стегнул коня плетью и исчез за деревьями вместе со своей дружиною.
– Ну, вот, – поглядев им вослед, удовлетворенно кивнул Ремезов. – А вы говорили – прятаться.
Больше на всем пути не встретился никто, если не считать одного кабана и пары зазевавшихся зайцев, одного из которых Митоха тут же взял на стрелу, второй же, петляя, умчался.
Заночевали в овражке. Разложив небольшой костерок, сварили зайца, подкрепились, заварили сбитню, да, устроив один шалаш на троих, полегли себе спать. Проснувшись с промозглым рассветом – угли в костре еще тлели – поехали дальше.
Уже потянулись знакомые места – засыпанные снегом поля, луга, рощицы… а вот и речка, а за ней, на холме – Заболотица, усадьба.
Завидев показавшихся всадников, дернулся в надвратной башенке часовой, ударил в било. Распахнутые наполовину ворота тут же закрылись, и Ремезов улыбнулся:
– Молодцы, а? Службу несут справно! Эй, на вратах, отпирай! Боярина своего не признал, что ли?
А вполне мог и не признать – этакого-то молодца в синем богатом плаще, с поясом золоченым – все княжеские подарки. Доспех кольчужный да шлем Павел, естественно, сейчас на себе не надел – их, вместе со щитом, вез, приторочив к седлу, Окулко. А вот мечом перепоясался, знатный был меч, уж хотелось им похвалиться.
– Ой! – свесившись, радостно закричал с башенки страж. – Господине! Эй, эй, отворяйте ворота, то господин наш, боярин!
Распахнулись ворота, на просторный двор усадьбы встречать выбежали все, да и из других изб потянулись.
– Слава боярину-батюшке! Слава!
Пуще всех кланялся тиун – рядович Михайло, за ним – вполне искренне – улыбался длинноволосый Демьянко Умник, да похоже, что все были рады – за несколько месяцев с момента «резонанса» Ремезов все ж таки кардинально поменял имидж. Был садист-страхолюдец, которого даже цепные псы боялись, стал – «боярин-батюшка», так сказать – слуга царю, отец солдатам. Истинно – батюшка, несмотря на младой – юный даже – возраст. Ну а как? Кто всем этим людям единственная защита и опора? Он! Заболотский боярин Павел.
Рады были и дружинники – Неждан, Микифор, Яков и прочие.
– Чтой-то ты задержался, господине. Схоронил батюшку?
Ремезов устало отмахнулся:
– У Окулки с Митохой спрашивайте – они расскажут. А ты, Михайло, вели-ка баню топить.
Тиун торопливо склонился:
– Посейчас прикажу, господине.
Попарившись в баньке, Павел расположился у себя в горнице и, позвав тиуна с Демьянкой, занялся тем, по мысли его, совершенно необходимым, делом, о чем подумывал уже давно. В людской давно уже дожидались молодые парни – Нежила, Микифор, Яков… пока только эти – два холопа и закуп. Эх, жаль, Гаврила погиб – ну да что уж.
Первым Ремезов вызвал Микифора – несмотря на молодость, этот смешливый светловолосый парень уже подавал определенные надежды – смелый, но осторожный и далеко не дурак. Павел еще по осени назначил его в десятники, и сейчас, разложив на столе всю «бухгалтерию», пристально рассматривал «холопскую грамоту», время от времени консультируясь с Демьяном. А тот уж сидел, как заправский клерк, только очков да компьютера не хватало.
– Микифор, Ждана Охотника сын, холоп по урождению, – отложив грамоту, негромко резюмировал Павел. – Отца с матерью, Микифор, насколько помню, у тебя нет?
– Нет, господине. Оба давно уж от лихоманки померли.
– Понятно, от гриппа, наверное.
– Не, господине, не от грибов – грибы-то они все знали, поганых бы не пробовали.
Несколько рассеянно Ремезов покачал головой:
– Ну, вот я и говорю – не от гриппа – от осложнений. Значит, ты у нас – холоп. – Боярин повернул голову: – Обельный, Демьянко?
– Обельный, господине, обельный, – важно подтвердил «секретарь». – О том и в грамотце-от сказано…
– Давай-ка ее сюда! – подмигнув Микифору, хохотнул Павел. – Это мы – в огонь, а новую – сладим. Ты, Демьян, пергамент-то приготовил?
– Приготовил, вона… старые записи все, как ты велел, счистил – хоть сейчас пиши!
– Так и пиши, чернильницу захватил – вижу. Ну? Чего ждешь?
Отрок хлопнул глазами:
– Так ведь – слов твоих, господине. Чего писать-то?
– Ряд, договор составляй – вон, с Микифором, Ждановым сыном… Все честь по чести, как принято.
Услыхав такое. Микифор со слезами бухнулся на колени:
– Не гони, господине! Чем я тебя прогневал? Не гони!
– Так я ж тебя не гоню, – хлебнув из большой кружки квасу, рассмеялся боярин. – Просто не холоп ты теперь – а рядович. О чем сейчас договор и составим.
– Прежде надобно от холопства освобожденье выписать, – подняв голову, заявил Демьян. – Ты же сам сказал, господин – честь по чести.
– Так выписывай, – Павел махнул рукой и жестом приказал Микифору подняться на ноги. – А в ряде отобрази – главное для Микифора Жданова дело – воинское, ратная служба. Ну и грамоте должен обучиться – на то ты гож. Учительствуй!
– Сполню, господине.
Высунув от старания язык, Демьянко Умник заскрипел пером, тщательно выводя буквицы:
– «В лето господне… седьмого дня…
Новоявленный рядович покинул боярскую горницу в совершенном расстройстве, поскольку не знал еще, что сейчас и делать – радоваться или, наоборот, плакать? С одной стороны, оно, конечно, от холопства обельного-то освободиться неплохо. Однако, с другой – за холопа-то господин думает и все решает – кормит, поит, обихаживает. Рядович – не так! Все по «ряду», а что сверх того – сам думай! Вот и болела теперь голова у Микифора… и Нежилы, у Якова… Яков закуп был – долг, «купу», боярин ему простил, а договор составил. Так и стал Яков – рядович, и тоже пока не знал – радоваться тому аль печалиться?
– Ну, вот, – покончив с последним договором, Ремезов встал с лавки и прошелся по горнице. – Дело и сладили.
Что характерно, половицы – горница располагалась на высокой подклети – даже не скрипнули, ну, еще бы, доски в те времена на пилорамах не пилили, просто деревья расклинивали, да потом обтесывали топором – оттого доска крепкая, увесистая выходила, такой запросто и медведя убить – ежели по звериной башке приложить да совсем старанием!
– Так язм пойду, господине? – подал голос тиун. – Завтра с утра бабам-челядинкам кудель прясть, так гляну, все приготовлю.
– Иди, – расслабленно отмахнулся Павел и, поглядев на «секретаря», добавил: – Ты тоже на сегодня свободен, Умник. Хотя… – молодой человек вдруг резко повернулся и сел, пристально взглянув прямо в глаза подростка. – Ты ведь у нас тоже холоп, кажется?
– Холоп, господине.
Ремезов решительно махнул рукой:
– Теперь тоже будешь по личному договору работать! Ну, что ресницами плещешь? Давай, грамоту на себя составляй. Что… не рад, что ли?
– Да нечему радоваться-то, батюшко, – с неожиданной решимостью возразил отрок. – Из холопей меня в рядовичи переводить – нету никакого смысла. Все одно ведь рано иль поздно в холопи вернусь.
Боярин недобро прищурился:
– Так-та-ак… поясни-ка, почему это? Ну, давай-давай, не стесняйся! В чем причина… есть ведь, а? Нехорошо от господина утаивать.
– Так язм, господине, и не утаиваю, а так… – Демьянко неожиданно покраснел аж до самой шеи. – Не ведаю, как молвить.
– Молви прямо! Ну!
Ремезов и сам уже заинтересовался – чего это с парнем происходит? Вроде не дурак, своим умом жить может… или просто так легче – рабом? Ну да – легче. Если хозяин не самодур и не извращенец.
– Девушка одна есть, отроковица, – засопев, наконец, признался Демьян. – В Заовражье, у одной вдовицы, холопка. Мы сей се летось в рощице познакомились – ягоды собирали, а язм еще и лозину на крылья присматривал.
– Ага, ага, – поерзав на лавке, Павел хитро прищурился. – Что замолк-то?
– Стесняюсь говорить, господине.
– О! Глядите-ка, какой стеснительный! Ладно, – усмехнувшись, Ремезов потер руки. – Не хочешь говорить, не надо. Я сам за тебя расскажу. Познакомились вы, значит, в лесу, потом стали встречаться – бегать друг к дружке – то ты к ней, то она к тебе… Девчонку-то как звать?
– Лера… Валерия…
– Ка-ак?
Боярин чуть квасом не поперхнулся – вот так имечко! Для смоленской – тринадцатого века – глубинки весьма не характерное. Это ж надо – Валерия! Словно в Риме древнем… Постой-ка…
– Постой-ка! – Павел прищурился. – Откуда такое имя?
– Хозяйка так назвала. Госпожа, ну, вдовица… женщина ученая, своевольная, правда.
– А вдовицу-то ту случайно не Клеопатрой зовут?
Демьянко тряхнул головой:
– Не, не Клеопатрой – Марьей Федоровной.
– Так-та-ак… – вспомнив знойную вдовушку с медно-змеиными волосами – кстати, любовницу «Битого Зада» – задумчиво протянул Ремезов. – Значит, вот как твое имечко, Клеопатрушка.
– Что, господине?
– Ничего. Говорю, девку за тебя высватаю, не сомневайся. Только… тебе лет-то сколько?
– Тринадцатое лето прошло, господине.
– Тогда рано еще тебе жениться! Или… что-то меж вами было уже?
– Не, господине, – привстав, отрок истово перекрестился на висевшую в углу икону. – Ничего не было, не целовались даже – как можно?
– Да можно, – Павел не выдержал, рассмеялся. – А ты ходок, как я погляжу, Демьянко! Красивая хоть девчонка-то?
– Очень! Глаза – синие, словно васильки в поле, ресницы – лесом, золотая коса…
– Ого! Да ты поэт, парень. Ну, не сейчас, так потом женишься. Так Валерия твоя холопка, так?
– Обельная… – подросток поник головою. – А по закону, холопство обельное твое – и кто поимет рабу без ряду да на том и стоит.
– Ладно, не бери в голову, – Павел потрепал «секретаря» по плечу. – Не завтра тебе и жениться, а со временем – придумаем что-нибудь. Пока же – «ряд»-то на себя пиши!
– Пишу, боярин.
Честно сказать, Ремезов сильно надеялся на этого очень даже неглупого парня, куда больше, чем на тиуна – уж тот-то себе на уме был, сие даже в глаза бросалось. Не то, что Демьянко – человек исполнительный, умный, надежный…
Ладно! Ежели что, так надобно будет сговориться со вдовушкой… кстати, повод навестить появится, надо же с соседями отношения налаживать! Ишь ты – Марья Федоровна… Ладно.
– Она и посейчас здесь, – подняв глаза, неожиданно промолвил отрок.
– Кто здесь? – не понял Павел. – Вдовица?
– Не, не вдовица, господине – Валерия. Дело, говорит, у нее к тебе… у хозяйки.
– Так-так-так! – боярин вскочил с лавки. – А что ж ты раньше молчал?
Подросток повел плечом:
– Так у нас тут, чай, дела поважнее были.
– Оно и правда, – подумав, согласился Ремезов. – Так вот кто тебя смутил… Ну, что ж, с важными делами мы на сегодня закончили, так что давай, зови посланницу, зови.
Девчонка и в самом деле оказалось вполне симпатичной, приятненькой, правда, слишком уж еще юной. Васильково-синие, как и говорил Демьянко, глаза, коса золотистая из-под платка теплого шерстяного, овчинка бедноватая, да зато с разноцветными ленточками, на ногах лапоточки новые.
Вошла в горницу – бухнулась на колени, и Демьянко с ней – рядком. Впрочем, парня боярин выгнал, девчонку же усадил на лавку, квасом напоил, а потом уж спросил – что за дела к нему у госпожи Марьи Федоровны?
– Важные дела, господине, – девчонка, встав, поклонилась. – Госпожа тебя в гости к себе на усадьбу зовети.
В гости? А что ж, неплохая идея, к тому же на улице еще и не начинало темнеть.
Усмехнувшись, Ремезов выглянул в дверь:
– Михайло! Вели коня готовить… и пару конных слуг.
Завражье не так уж и далеко от Заболотицы находилось – верхом пара-тройка часов, Павел не заметил, как и приехали. Хозяйка заовражной усадьбы ждала на крыльце, видать, давненько уже выглядывала гостя. Завидев, разулыбалась, впрочем, тут же придала лицу вполне кроткое выражение.
Взбежав на крыльцо, молодой человек вежливо поклонился – здравствуйте, мол, Марья Федоровна.
Женщина поклонилась в ответ:
– Добро пожаловать, гостюшка дорогой, не знала уж, когда и заглянешь – пришлось самой гонца отправлять.
– Ничего, госпожа Марья Федоровна, – лукаво прищурился Павел. – Как бы я без приглашенья явился-то?
– А и явился бы, так и ничего, – сделав гостеприимный жест, вдовица посторонилась, приглашая Ремезова войти в горницы, натопленные таким жаром, что молодого боярина сразу же бросило в пот.
– Жарковато у тебя, хозяюшка.
– А ничего, – войдя следом, засмеялась Марья Федоровна… пожалуй, и просто – Марья. – Жар костей не ломит, а посейчас слуги и хмельного кваску принесут. Хлебнешь, боярин, с дороги-то?
– А и хлебну.
Павел заметил, как чуть заметно дрогнули длинные, черные, как смоль, ресницы…
– Хлебни, хлебни, гостюшка дорогой. И угощеньица моего отведай.
– Отведаю… – невольно обернувшись, гость глянул на слюдяное оконце – уже начинало смеркаться. – Недолго и посижу, темень скоро.
– А куда тебе спешить? – засмеялась вдова. – Домой затемно все равно уже не успеешь… Да и куда тебе на ночь-то глядя – ночуй.
– Что ж… – Ремезов повел бровью, бросив на собеседницу столь многообещающий взгляд, от которого ту прямо-таки бросило в дрожь.
– Ах, боярин, – выпроводив слуг, Марья подвинулась к гостю ближе, прижалась – плечом к плечу. – Если б ты знал, как я тебе ждала! Старый-то черт Онфим с той поры… ты знаешь, с какой… и носу не кажет. Да и не нужен он! Ах… какие у тебя очи, чудные, право, чудные… особенно, когда ты вот так смотришь…
– Как этот – так? – обнимая женщину, прошептал Павел.
И, не говоря уже больше ни слова, поцеловал в губы.
Вдова отозвалась на поцелуй с таким пылом, что, казалось, в горнице стало еще жарче. Ох, ка-ак она целовалась! Да и молодой человек не терял времени даром – погладив хозяюшку по спине, рассупонил, снял красного аксамита платье, спустил с левого плеча рубаху, обнажив грудь – белую, точеную, упругую, с коричневым твердым соском, который тут же ухватил губами…
Марья застонала:
– Ах! Вон, видишь – дверь… Опочивальня.
Подхватив женщину на руки, боярин отнес ее на ложе, и, обнажив, принялся целовать страстное, готовое к любви и него, тело. И, поспешно сбрасывая одежду, сам невольно залюбовался. И было ведь – чем!
Чуть припухлые, волнительно приоткрытые, губы, зубки жемчугом… антрацитово-черные волнительные глаза, сахарно-белые плечи, упругая грудь, точеное, словно у греческой статуи, тело…
Горящий нетерпением взор. И томный, едва слышный, шепот:
– Что ж ты стоишь, боярич? Иди…
И в самом деле – чего было ломаться-то? Оба совершенно точно знали, чего именно друг от друга хотели. Того самого… зачем, Павел, собственно, и явился, зачем его Марья-вдова и звала.
Жар соприкоснувшихся тел, казалось, вспыхнул, едва не взорвался молнией… Марья обняла молодого человека за плечи, а тот ее – за талию, и вот уже… и вот уже мир вокруг перестал существовать, проваливаясь в томительно-сладкую негу… Лишь томные взоры, лишь тяжелое прерывистое дыхание, лишь стон… сперва – еле слышный, а потом…
Нет, не на всю избу, но…
А кого стесняться-то? Слуг, что ли?
Действительно – кого…
– Как ты хороша, Марьюшка! Как красива!
– И мне с тобой хорошо, боярич. Хоть и знаю – не суждено нам никогда мужем-женой стать. Так, в полюбовничках, и будем.
– Это плохо?
– Не знаю. Мне пока – хорошо. Правда – грех… Но от того, знаешь – слаще! И ты такой… я еще ни с кем так вот, хотя и постарше тебя…
Ага, кто бы говорил – постарше! Однако все же Ремезов ощущал в любовных дела и того… студента-француза, самоубийцу с Данфер Рошро. Неужели тот и вправду разбился? Жаль. С таким-то знанием женщин. Он, верно, не литературе, а медицине учился.
– Ох… Греховодник!
Женщина выгнулась, вскрикнула, всколыхнулась, но – Павел это прекрасно чувствовал – было ей очень и очень приятно.
– Еще, еще… ну же…
Он что, железный, что ли? Ну, раз женщина просит…
– А ну-ка, повернись…
– Ой… не зря я иконку тряпицей завесила.
– Грешница!
– Кто б говорил… Ничего! Сладкий грех и замаливать сладко.
Погладив любовницу чуть пониже спины, молодой человек тихонько рассмеялся:
– Так, если разобраться, никакой это и не грех вовсе. Я так понимаю: грех – это когда кому-то плохо. А мы с тобой кому плохо делаем? Уж точно – никому. Разве что позавидует кто.
– Если узнает.
– Узнает. Ты вот покричи громче – поди, все твои служанки под окнами и у двери собрались…
– И пусть!
– Ну, так кричи, кричи же – стесняться некого!
Ах, как это было… Просто незабываемо, вот ведь, Ремезов и представить себе не мог, чтоб в эти ханжеские века – и вот так…
Потом, утомленные любовью, пили квас и пиво, прихваченное с собою Павлом. Хорошее оказалось пиво – свежесваренное, правда, по градусам хмельному квасу уступало заметно.
Напившись, Марья прильнула к ремезовской груди, погладила:
– Завтра уедешь?
– Угу. Поутру, рано. Мне еще рать собирать.
– Татары?
– Они.
– Брр! – несмотря на жару, женщина зябко поежилась. – Как представлю, что эти поганые нехристи сюда к нам заявятся…
– Не заявятся, – успокоил Павел. – Что им тут делать-то? Взять-то нечего, да и леса кругом… Вот Ростиславль пограбить, Смоленск – то другое дело.
– Ха-ха, – Марья неожиданно засмеялась. – Выходит, мой бывший полюбовничек зазря в Смоленск подался?
– Ты про Телятникова? – насторожился молодой человек.
– Про него.
– Тогда напрасно беспокоишься, он не от татар, он кляузничать поехал.
– Чего делать?
– Наушничать, доносы писать. Тот еще политик!
– Да уж, политик, – как ни странно, это слово вдовушка прекрасно поняла, и даже продолжила: – Доносы, интриги… Прям как у Аристотеля – афинская полития.
Вот тут уж Павел вздрогнул:
– Ты что же, Аристотеля читала?
– Священник, отец Ферапонт, рассказывал, уж он-то муж ученый, греческий знает, латынь. Да ты еще в прошлый раз дивился, когда я Цезаря поминала. Нешто за сельскую дуру меня считаешь?
– За сельскую – да, – честно признался Ремезов. – Но – не за дуру. Отнюдь! Кстати, забыл спросить – как детушки-то твои? Поздорову ли?
– Слава господу, поздорову, – Марья улыбнулась. – Нынче в лесах, на заимке – с верными слугами на охоту отправились, ужо чего запромыслят.
– А я подарочек припас… Соли кружок.
– Соли?! – встрепенувшись, женщина посмотрела на любовника с таким недоверчиво-изумленным видом, словно он только что предложил ей французскую корону.
– Соль, да, – Павел поднялся с ложа с самым довольным видом, пошарив в суме, вытащил аккуратно завернутый в тряпицу кружок. – Будет дичь, так засолите. Ну, или рыбу.
– Спаси тя Бог, – тихо поблагодарила вдова. – Вот уж поистине – княжеский подарок. Не знаю, чем и отблагодарить.
– Уже отблагодарила, – цинично признался молодой человек.
И в ответ услышал подобное же:
– Скорей ты меня.
– На зависть слугам!
– На зависть. Вот что, милый… – Марья неожиданно уселась на ложе с несколько нервным видом – если б в те времена здесь был известен табак и существовала мода курить – так и закурила б. Так, слегка успокоить нервишки.
– Я ведь тебя, боярин, не только для-ради сладострастия позвала… хотя, чего уж греха таить – и за этим тоже. Предупредить хотела.
– Предупредить? – Павел вскинул глаза. – О чем?
– Не о чем, а о ком. Сам уже, наверное, догадался.
– Телятников?
– Он. В Смоленск он не один, с верными людьми подался – у старого дуба тебя поклялся отомстить. Людишек своих к тому готовит.
– Ха! – Ремезов расхохотался с самым беспечным видом, хотя, конечно, и был взволнован известием, но виду не показал – зачем зря беспокоить женщину? Наоборот:
– Так тот дуб – языческий, а мы-то все – христиане. Разве христиане языческим божкам, идолам поганым, клятвы дают?
– Бывают, что и дают, – хмуро промолвила Марья. – Ты все же пасись. Ох, боюсь я за тебя, Павел! Ладно… что это мы о грустном? А ну-ка, пива испей! И обними меня… крепче… Теперь – целуй в губы, как ты умеешь… аххх…
В Смоленск, подобно неудержимым весенним ручейкам, стекались, блестя кольчугами, рати. Из ближних пригородов, из дальних вотчин, деревень, сел – шли пешие ратники с рогатинами на плечах, поспешали всадники в сверкающих шлемах, тянулись обозы с припасами: запасами стрел, шатрами и всем тем, что может понадобиться в битве. А битва ожидалась страшная – слухи о зверствах «мунгалов»-татар растекались половольем по всем русским землям, от Чернигова и Рязани до Новгорода и Полоцка. Мол, явилися из далеких степей неведомые страховидные люди, и несть им числа. Кто называет их – мунгалы», кто татарами кличет, впрочем, много средь них и тех, кого все хорошо знали – те же половцы, булгары, бродяги-бродники, даже, говорят, черниговский отряд.
Разное говорили, соглашаясь в одном – войско «мунгальское» – огромное, мощное, и ведет его царь Бату-Батый, знаменитого Чингисхана внук. Не щадят никого – ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей малых. Кого не убьют, так в полон возьмут, угонят в рабство, а землю – разорят, пожгут, пограбят.
Вот против такого разора и собирал смоленский князь воинскую рать, что должна была защитить город. Надеялись… и на людей, и на стены… правда – не шибко, понимали – и получше укрепленные грады не устояли, куда уж тут… Однако не сидеть же сложа руки, супостата дожидаясь?
Смотр собранному войску самолично старый князь Всеволод делал, а с ним – старые ремезовские знакомцы: князь молодший Михайло Ростиславич да Емельян Ипатыч, воевода.
Разномастные собрались ратники – кто (таких мало) в кольчуге, да при шлеме с бармицей, кто – в кожаном, со стальными бляшками, панцире, большинство же и вовсе без всякой защиты – ополченцы-смерды – в лучшем случае – рогатина, ну а так – дубина. Хмурился князь, икоса на свою дружину поглядывая – вот уж там-то молодец к молодцу, все на сытых конях и вооружены отменно – из того самого «дальнего амбара», где заболотский боярин Павел подарок себе выбрал.
Выбрал, да… Потому сейчас и выглядел не хуже княжьих – в кольчужном доспехе, в плащике алом, на поясе добрый меч с длинной «рыцарской» ручкою, на голове – шлем с бармицей, с полумаскою. Позади «дубинушка» Неждан – в оруженосцах. Тоже верхом, да, кроме своего оружья – секиры да палицы – еще и господское копье, и червленый щит треугольником, а на том щите – крест православный святой. Нравился сам себе боярин – рыцарь, как есть рыцарь! А меч так и прыгал в ножнах, словно бы норовил влезть, прыгнуть в руку – и бить, бить, крушить. Что и говорить – очень агрессивный клинок попался, княжий подарок. Еще и запасной, Даргомысла-кузнеца, меч имелся – у Неждана к седлу приторочен, мало ли – пригодится.
Окромя самого боярина с оруженосцем, еще в заболотской рати смешливый да умный Микифор – в десятниках, да Нежила, да Яков, да закуп Ондрейко с Выселок, да много иных – всего ж набралось пара дюжин, да и тех едва удалось снарядить – с землицы-то доходов маловато, чай, не именитый вотчинник, а так, «шляхтич загоновый вольный слуга».
В небе из-за облачков бежевых солнышко проглядывало, светило. Снежок легонький на просторный двор княжий падал, на плечи ратников, на коней, на воевод бравых. На самого старого князя не падал – тот на крылечке, под навесом, стоял.
Реяли гордо стяги, покачивались разноцветные бунчуки: не красоты ради – сигналы в бою подавать. Для той цели и барабаны половецкие, и рога-трубы. Издалека посмотреть – славное собралось войско – молодец к молодцу, но, как вблизи глянешь… пешие ополченцы не окольчужены, секиры да рогатины и то не у всех. И все ж чувствовалась в войске решимость за землицу свою постоять.
– Ну, ин ладно, – еще разок оглядев войско, старый, похожий на Ленина, князь Всеволод Мстиславич устало махнул рукою, да к племяннику троюродному, обернулся. – Давай, Михайло, командуй, распоряжайся. Надо и детинец прикрыть, и вылазку сделать.
Младший князь приосанился:
– Сделаем, дядюшко.
– Ипатыч, да все прочие воеводы тебе помогут.
– Инда так.
Перекрестил Всеволод Мстиславич войско, сам перекрестился, да скрылся со свитой в хоромах. Михайло же с воеводами тотчас же приступили к делу. Еще раз – уже более подробно – провели перекличку. Тимофей, дьяк княжий, с помощниками пометочки в грамотцах берестяных сделали – кто как вооружен, да у кого сколько людишек.
Как все закончилось, дородный воевода Емельян Ипатыч рукой Ремезову помахал – подойди, мол. Бросив поводья коня Неждану, Павел подошел, поклонился вежливо:
– Звал, Емельян Ипатыч?
– Звал, звал. Мне как раз такой, как ты, нужен – резвый.
– Резвый? – заболотский боярин хлопнул ресницами. – А что, ехать куда придется?
При этих словах воевода расхохотался, колыхаясь всем телом, верно, так хохотал бы кит, умей он смеяться:
– Придется, придется, уж так. Князь Михайла передовой отряд сбирает – вот и ты с людишками твоими – туда. За Протокой войско татарское видели, не все, а так, отрядец вроде.
– Вроде?!
– Вот вы и посмотрите – что там да как?
Сразу и выехали, впереди, в авангарде – Павел со своим отрядом, а уж за ним – основная рать во главе с Михаилом Ростиславичем. Конные, пешие: блестят на солнце шеломы; кольчуги, подпруги звенят, колыхаются наконечники копий.
И вот уже остался позади огромный раскидистый храм Святой обители на Протоке, ступенчатый, с широкой галереей и двумя приделами-храмиками. Дальше зимник, как водится, шел по реке, в чем юный князь сразу же увидел опасность, отправив авангард Ремезова влево, на высокий, поросший редколесьем, холм.
Трудно было вздыматься – кони вязли в снегу, пришлось бросить да идти дальше пешком. Верба с красноталом-брединою остались внизу, пошли липы и клены, за ними – сосна, ель. Там, в ельнике, и остановились – на вершине холма. По сторонам глянули…
– Ох ты ж, Господи, мать честная! – не выдержав, промолвил Неждан. – Сколько ж их тут! Как саранчи…
Павел нервно поскреб подбородок – с высоты хорошо видно было растянувшееся в низине – верстах в трех – войско. Огромное, оно ползло толстой змеей, ядовитой гадиной, играя на солнце отблесками оружия и доспехов. Хвост гадины терялся меж дальних холмов в синей туманной дымке, голова же быстро приближалась – уже хорошо можно было рассмотреть разноцветные бунчуки и копья.
– Митоха, Яков – остаетесь здесь. Наблюдайте! Если что – шлите гонца, – быстро распорядился Ремезов. – Я же доложу князю.
Спокойно выслушав доклад, Михаил Ростиславич тут же послал пару сотен на холмы – контролировать ситуацию, и, если что – навалиться в самый последний момент, ударить, отрубить ползущей гадине голову.
Основные же силы спешно выстроились поперек реки – от берега к берегу – никакой иной дороги тут не имелось.
– Ничего, – выхватив меч, князь подмигнул Павлу. – Тут их и встретим – никуда не денутся. Да и не обойдут – холмы, а там – наши люди.
– То так, – согласно кивнул боярич. – Но больно уж их много.
– Ничего… – снова повторил князь, вглядываясь в излучину, откуда – вот-вот уже – должны были появиться враги.
И они появились. Возникли, словно б из ничего, будто бы привидение, морок. Тускло сверкало на кожаных латах солнце, играло на стальных шлемах, на палицах, на обнаженных саблях…
Дернулся синий бунчук… Наконечники копий упали вниз, вытянулись плотоядно, словно тысячи ядовитых жал, и в нетерпении задрожали – скорей бы, скорей – испить вдосталь кровушки, ворваться, пронзить живое трепещущее тело!
– Щиты – вверх! – полетел по шеренгам ратников приказ молодого – но уже весьма опытного – князя.
И правда – сейчас – вот сейчас! – уйдут в небо тучами стрелы, взовьются и упадут смертоносным дождем, как всегда и бывало.
– Лучники… – снова прошел приказ. – Стрелы готовь!
Павел прищурился – еще посмотрим, кто кого, еще поглядим… Жаль, конечно, что он не был сейчас со своими людьми – просто не успел к ним вернуться, что ж… Все дрожало! И руки, и губы… Но страха не было – лишь злое нетерпение: ах, тварюшки, явились на нашу землю? Тогда уж получите по полной.
Не было больше ученого, исчезли без следа и французский студент с комсомольцем, остался лишь молодой боярин Павел Петров сын Заболотский. Смолянин. Русич. Ратник.
Колыхнулся в левой руке алый, с белым драконом, щит, упало на клинок солнце… Ну! Идите же сюда, супостаты! Ищите свою смерть. Скорей же!
Дернулся в стане врагов белый бунчук… Поднялись копья. Застыла татарская рать… Что такое?
Шагов пятьсот не дошли, всего-то… Видно, удумали какую-то злую хитрость.
– Ой, гляньте-ка – скачет!
Из вражьих рядов выехал тяжеловооруженный всадник – конь его был прикрыт латами из тонких железных пластинок, такие же латы имелись и на всаднике, на груди же золотом сверкало зерцало, качались над стальным шлемом красные перья. Всадник ехал один, не спеша… парламентер, что ли? А похоже на то! Вот, не доехав, спешился. Выхватил из ножен тяжелую саблю… бросил в снег! Отстегнул скрывающее лицо бармицу… снял шлем.
Улыбнулся широко… рассыпал ветер темные, с рыжиной, волосы – целой копною…
– Господи… – еле слышно прошептал Ремезов. – Ирчембе-оглан!
– Что такое? – все же услышал князь.
– Знакомец старый.
Михайло Ростичлавич тоже снял шлем:
– Что ж, поглядим, что твоему знакомцу надо. Он по-нашему-то говорит ли?
– Очень хорошо, княже.
Степной рыцарь, подойдя ближе, вежливо склонил голову:
– Я – Ирчембе-оглан, багатур степей, желаю говорить с вашим воеводой. Не от своего лица, а от князя и темника Орда-Ичена.
– И что же хочет твой князь? – назвав себя, осведомился Михайло. – Смоленск?
– Нет, – покачал головой посланец. – Смоленска не хочет. И великий хан наш Бату войны с вами не ищет, ибо завещана монголам иная дорога – на Запад, к последнему морю.
Ремезов усмехнулся – хорошо говорил степной рыцарь, образно, можно даже сказать – поэтически.
– Дозволь спросить, князь, – еще раз улыбнувшись, Ирчембе-оглан, наконец, перешел к делу. – Вы – рать смоленского князя Всеволода?
– Да, – не стал вилять Михайло. – Так оно и есть.
– Тогда вы-то нам и нужны! – неожиданно расхохотался посланник. – Я и мой князь Орда-Ичен явимся с вами в город.
– Добро, – княжич склонил голову. – Переговоры будете вести?
– Нет. Просто заберем с собой всю смоленскую рать.
Ирчембе-оглан глянул на русских воинов с таким довольным видом, словно это было его, личное войско. Похоже, батыр степей в этом нисколечки не сомневался.
– Что это он говорит-то? – тихо спросили позади Павла. – Нешто князь рать им отдаст? С чего бы?
– Отдаст, – не поворачивая головы, прошептал Ремезов. – Лучше уж малой кровью обойтись, откупиться, чем все княжество под монгольский меч поставить. Новгород вон – откупился, и в ус не дует.
– У Новгорода богатство немереное…
– А у нас – рать смоленская! Нужны мы монголам, выходит.