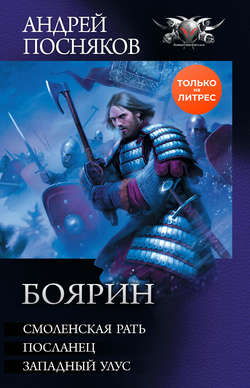Читать книгу Боярин: Смоленская рать. Посланец. Западный улус - Андрей Посняков - Страница 7
Смоленская рать
Глава 6
Купцы
ОглавлениеНоябрь 1240 г. Смоленское княжество
В первых числах ноября захлестнула душу Ремезова суровая грусть-тоска кручина. Выпавший было снег в первых числах месяца стаял, снова наступила распутица, грязь кругом непролазная, так что и на улицу не очень-то выйдешь, да и делать что – по легкому морозцу куда как лучше – что охоту взять, что ловлю рыбную.
Не только один боярин осеннюю тоску испытывал – и многие, да почти все, окромя кузнеца-воина Даргомысла с выселок да всех те, у кого и в распутицу находилось важное дело. Кто-то бочки делал, кто-то лыко вязал, а кое-кто – лапти. Хорошая обувка – лапоть – удобная, зимой в ней не холодно, летом – не жарко, одно плохо – снашивались лапти быстро, мужику одной пары максимум дня на три хватало. Потому и требовалось лаптей много, и стоили они – дешево, ну так ведь и каждый сплести мог – если по-простому, без хитростей, без узорочья.
Павел, однако, лапти не плел – не умел, да и не боярское то дело. Выглядывая изредка во двор, снова слонялся по горнице из угла в угол – мысли прогонял нехорошие. Мерзопакостная стояла погода – с хмарью, с тучами сизыми, низкими, с мелким липнущим снегом пополам с дождиком. Расползлись, расквасились подмерзшие было уже стежки-дорожки, а на вздувшейся реке плыли мелкие обломки льда – шуга. К весне б такое дело – радовались бы, но на дворе-то почти что зима. А ни снега, ни льда, ни мороза! Одно ненастье изо дня в день.
Субэдей! – вот о ком не переставал думать Ремезов. Как и любой нормальный человек, он все же должен был попытаться вернуться, это только издали, с книжкой или перед телевизором в кресле сидючи, кажется, будто вон оно как здорово да интересно в Средние века люди жили – красиво, по-благородному! Это издалека – так, а на самом-то деле – да ничего хорошего. Вокруг полная антисанитария, болезни, грязь, Павлу уж сколько сил приложить пришлось, чтобы при каждой избенке элементарную уборную завели, не бегали в поле да в лес – где попало. Везде так в это время было – в Лондоне, Париже да во всех прочих городах – с дивными готическим соборами, с мощными стенами – уборных тоже не ставили, содержимое ночных ваз выплескивали, ничтоже сумняшеся, прямо на улицу, прохожим, хорошо, если только под ноги, а не на голову. Одежду стирали редко – от того краски смывались, мылись тоже – даже феодалы – раза два в год. В русских-то княжествах, конечно, чаще – лес вон он, рядом, за околицей, верви-общины лес. Хворосту, дровишек – уж каждому заготовить можно. В Европе, увы, не так – места мало, любой лес при хозяине, попробуй-ка, укради дров! Пищу-то горячую приготовить – проблема, все больше затирухами перебивались, а уж про мыться и говорить нечего. Это ж сколько надо воды нагреть! А дровишки где? Многие, правда, торфом да древесным углем перебивались. А средневековые знатные дамы? Не мывшиеся, не умывавшиеся никогда, блохами да вшами кишащие… И это – знать! А уж копнуть ниже… Замуж лет в тринадцать. Если позже – уже говорили – старая. Через год – ребенок, потом – еще, еще, еще – каждый год рожали, кто б позволил бабе пустой простаивать? Не те времена. Из десятка детей пятеро умрут во младенчестве, еще кто-то – подростком, двое-трое останутся – род продолжить. В двадцать семь – уже и дочку пристраивать замуж, годика через два – сына женить, вот уже в двадцать восемь и бабушка, а в тридцать – старуха. Страшные были времена…
Павел покачал головой – хм… были? Еще как тут сам-то от какой-нибудь поганой болезни не умер, все Господь миловал – здесь ведь даже обыкновенная вирусная инфекция, простуда – часто смертельный недуг, не говоря уже о бронхите или воспалении легких – без антибиотиков, травками да заговорами не вылечишь никак. Даже в войнах большинство вовсе не от вражеских копий да мечей погибало – от эпидемий, да еще от голода-холода, монголы, кстати, все военные кампании предпочитали вести зимой, когда можно было более-менее свободно на большие расстояния передвигаться, летом-то – по болотам, через реки-ручьишки – попробуй!
Монголы, Субэдей… Неужто не выйдет ничего, не получится? Небольшой бы совсем толчок… а уж у Субэдей-багатура – судя по летописям, пассионарной энергии хоть отбавляй! Добраться бы до него только!
Подумав, молодой человек уже собрался было велеть позвать Митоху – наемник все ж на усадьбе прижился, службу нес без нареканий, исправно, даже молодых ополченцев тренировал – степным оружием – сабелькою владеть учил, Павел тоже его ученьем не брезговал – меч – он туп и прямолинеен, клинок тяжел, особо не пофехтуешь, иное дело – сабелька. Вот Митоха-то должен бы многих в княжестве знать – на купцов бы сейчас самое время выйти, к каравану прибиться – к тем, что на восток. Или где там сейчас Субэдей – на Волыни, в Галиче? Ну, значит, нам туда дорога… волы-ы-нская улица по городу иде-о-от…
Постучавшись, в дверь заглянул Демьянко Умник. В длинной – до колен – теплой рубахе с вышитым оплечьем, с гусиным пером за ухом, с длинными, стянутыми узеньким ремешком, локонами, отрок выглядел как записной ученый муж, этакая типичная конторская крыса, офисный планктон – очков да нарукавников еще не хватало для полноты образа. Плюс – гаджеты и ма-аленькая чашечка кофе в левой руке. Это бы добавить, да в костюм с рубашечкой приодеть – вылитый «стратегический менеджер».
– А, заходи, заходи, парень! – обрадовался молодой человек. – Я уж и сам тебя кликнуть собирался, отправить Митоху позвать.
– Язм, господине, с делом к тебе, – сдержанно поклонился подросток. – Сейчас и Михайло-тиун прийти должон… О! Вон он, на крыльце топочет. Середа сегодня – вот мы с докладом и пожаловали.
– Ах, среда, точно!
Ремезов и сам вспомнил, что по средам заслушивал «коммерческого директора» с секретарем, а те уж докладывали обо всех хозяйственных надобностях. Вот и сегодня пришли… Что ж – неплохо, и главное – вовремя, все ж какое-никакое, а развлечение. Да и о людях своих феодально зависимых тоже забывать не следует – не по-божески это.
– Здрав будь, боярин-батюшко, – войдя, поклонился Михайло. – Извиняй, задержался малость – грязь у крыльца с постолов счищал.
– Ладно, ладно, – Павел покладисто махнул рукой. – Садитесь вон, на скамью, докладывайте, квасу себе наливайте.
Посетители с готовностью уселись – прошли уже те времена, когда молодой боярин считался здесь-то вроде чуда-юда поганого, нынче его, скорей, уважали, нежели боялись. Хотя, конечно, побаивались – в Средние века уважение рука об руку со страхом хаживало, а в России-то матушке и до сих пор так осталось – любую структуру возьмите, хоть школу, хоть МВД. Какой хороший учитель? У которого дети «сидят», да мяу сказать боятся.
– Беда у нас, господине, – кашлянув, произнес тиун. – С солью опростоволосились. Нету соли-то! Все по осени извели. А чем рыбу зимой солить?
– Та-ак, – задумчиво протянул Павел. – Что же раньше-то не доглядели?
– Бабка Афросинья-засольщица виновата, весь запас ухнула – с нее и спрос.
Ремезов недобро скривился:
– Ага, понимаю – нашли стрелочницу. Ладно! Не станем сейчас виноватых искать, о другом думать надо – как проблему решить, исправить. Короче, где соль взять?
– Известно где – на базаре, в Смоленске, – подал голос Демьян. – Только вот не на что нам пока соль покупать – цены-то поднялись. Татары, рыцари – караваны редко ходят, да и зимы нет – нет и дорог, и с охотою сам, господине, знаешь, не очень.
– Ясно, – Павел поднялся на ноги. – Значит, по-другому поставлю вопрос – где нам на соль серебришка раздобыть? Причем по-быстрому. Сам же и предложу – найти купцов да с караваном их сопроводить… скажем, до Турова или на Волынь даже. Что смотрите? Понимаю, хотите сказать, что никто неизвестных людей не наймет. То так, не спорю. Но я самолично дружину свою поведу, а боярин Заболотний – все ж имя известное. И не бойтесь – на усадьбе воинов оставлю с избытком.
– То все так, господине, – Демьян с тиуном переглянулись. – Только где ж тех купцов сыскать?
Ремезов хитро прищурился:
– А мы про то сведущего человека спросим – Митоху! Я как раз вот только что о нем вспомнил. Ну-ка, Демьяныч, сбегай, позови.
Они двинулись в путь через неделю, когда грянул морозец да запорошило снегом дорожную грязь. С боярином отправились в путь двадцать воинов во главе с Гаврилой и Нежданом, кроме них еще с десяток обозников – на санях-волокушах везли подарки сюзерену – смоленскому князю, давно уже пора было везти. Еще, конечно – Митоха, как же без него-то? – да Окулко-кат – тот сам вызвался, из любопытства, больно уж хотелось иные места посмотреть. А еще прибился по дороге Охрятко – рыжий беглый слуга – надоело, видать, в Курохватове прятаться, хозяина, защиту себе искал.
Ремезов глянул на парня с усмешкою – слишком уж несуразен был: армячок рваненький, веревкой простой подпоясанный, да еще треух засаленный, да лапти, обмотки – дрянь.
Подумал молодой боярин да махнул рукой:
– Ладно, может, и с тебя толк какой будет. Иди, вон, к обозным… Парни, в поршни его обуйте, кабы лапти свои раньше времени не сносил да босиком по снегу не бегал.
По совету Митохи ехали Полоцким шляхом, меж холмами, низинками. На реках да болотах уже добрый лед встал, хорошо продвигались, ходко, в день верст по тридцать делали, что и сказать – словно птицы летели. Да по такой-то дорожке – сам бог велел. Иногда встречались на пути обозы санные – тоже в Смоленск, на ярмарку, ехали. Митоха многих знал, здоровался, с иными вместе и ночевали, разбивали походные шатры, жгли костры, Окулко-кат доставал гусли.
Через три дня пути на четвертый выехали к Днепру, дальше путь шел по льду, уже запорошенному белым искрящимся снегом. С погодою повезло, почти весь путь неторопливо кружил, падал мягкий снежок, а сквозь разрывы легких золотисто-палевых облаков частенько проглядывало солнышко.
А на пятый день, прямо с утра, едва выбрались из-за излучины – показался на вершине пологого холма высокий островерхий храм, вокруг которого группировались иные строения.
– Обитель Троицкая, – сняв шапку, перекрестился Митоха, а следом за ним и все. – Дальше еще один монастырь будет – Борисоглебский, у Смядыни-реки. Да во-он его уже и отсюда видать. А от него уж до града – рукой подать, рядом.
У Борисоглебской обители нагнали еще один большой обоз, поздоровались, спешились, помолились на ярусную Михайловскую церковь и – чуть пониже стоявшую – Васильевскую.
– Вишь, боярин, подале, за леском, церковь каменная? – выполняя просьбу Павла рассказывать в подробностях обо всем, с видом заправского гида продолжал объяснять наемник. – То Спасский собор. Обитель, ворота тоже каменные, смоленские зодчие строили. Ну, инда поехали – к обеду в городе будем, уж совсем ничего пути осталось.
Митоха не обманул: едва обогнали обоз, как глядь, за пологой излучиною бросился на глаза город – ближний посад с широкой деревянной пристанью, ныне запорошенной снегом, а за ним – основательная с виду крепость-детинец. На посаде, у пристани, на площади меж двумя высокими храмами, толпился-веселился народ – ярмарка! Воины приосанились, Окулко-кат повесил на грудь гусли.
– Торжище, – широко обвел рукою Митоха. – Иоанна Богослова храм… а вон тот, острый – немецкий. Так и называют – «немецкая божница». Тоже смоленские мастера строили, а зодчий был немец. За торжищем, вона, подальше – Параскевы Пятницы церковь на Малом торгу, рядом – Николы Полутелого храм, у вон, у речи – Чуриловка называется – еще одна церковь – Кирилловская. Что, господине, делать будем – сразу на княжий двор поедем или себе пристанище приищем сперва?
– И то, и другое сразу, – не задумываясь, ответил молодой человек. – Ты, Митоха, с обозниками некоторыми да с Охряткою пристанища поищешь… прошвырнитесь по торгу, припасов купите… заодно купцов-гостей присмотрите.
Наемник заломил шапку набекрень:
– Сделаем, господине!
– Ну, а мы пока – к князю.
Смоленский детинец, окруженный мощными деревянными стенами, за которыми виднелись основательные кирпичные постройки – княжеский терем, собор и небольшая церковь – располагался на пологом холме, господствуя над всеми остальными городскими строениями, в большинстве своем – деревянными.
Подъехав к распахнутым настежь воротам, Ремезов спешился и, поправив алый, щегольски накинутый поверх теплого полукафтанца плащ, подошел к охранявшим детинец воинам с красными миндалевидными щитами и с копьями:
– Заболотский Павел, Петра Ремеза сын, слуга вольный – к князю с гостинцем!
– А, Заболотский Павел?! – осанистый крепкий толстяк в богатой шубе, стоявший на княжьем крыльце, быстро спустился вниз по ступенькам. – Заходи, заходи… Поди, меня не помнишь?
– Нет.
Толстяк улыбнулся в усы:
– Малой еще был, а сейчас, смотри, как вырос! Язм Емельян Ипатыч, воевода княжий… То твои молодцы-вои?
– Мои.
– Добре. Ужо покажем князю. Ты заходи, заходи, я доложу. Одначе, – воевода вдруг огляделся по сторонам и понизил голос до шепота: – Вчерась сосед твой, Онфимко Телятников, гонца прислал с жалобой. Чем-то ты там его обидел.
– Врет, пес худой! – не моргнув глазом Павел спокойно пожал плечами. – Неведомые тати его у полюбовницы приловили – высекли, так что боярин Телятников теперь – Битый Зад! Язм тут при чем – непонятно. Послухов у Онфимки нет.
– А-а-а! – снова заулыбался воевода. – Вот оно как дело-то было! У полюбовницы застали? Ай-ай-ай! Битый Зад, говоришь? Надо же!
– Ты что, дядюшка Емельян, смеешься? – неожиданно, едва не столкнувшись с воеводою, слетел по ступенькам княжьего крыльца ладный молодой парень на вид лет восемнадцати-двадцати, с круглым красивым лицом, с непокрытою головою – на светло-русую, стриженную под горшок, шевелюру, кружась, ложились снежинки. Одет юноша был весьма прилично, богато – поверх длинной, подпоясанной золоченым поясом туники распахнутый на груди крытый сверкающей парчой полушубок, золотая цепь на шее, на ногах – зеленые сафьяновые сапоги.
– Да тут про Онфимку Телятникова рассказывают, – повернувшись, воевода почтительно поклонился юноше. – Вот это тех мест житель – Павел из-за болот, Петра Ремеза боярина сын, вольный слуга.
Ремезов вежливо поклонился:
– Здрав буди, княжич.
Ну, конечно – княжич. Кто еще это мог быть?
– Слыхал про Петра Ремеза, – покивал молодой князь. – Поговорил бы и с тобой, Павел, да некогда – рать воинскую надо смотреть… ничего, боярин, еще увидимся – и ты в той рати будешь, как время придет!
Махнув рукой, юноша сбежал по ступенькам на двор, птицей взлетел в седло подведенного расторопными слугами белого, как снег, жеребца. Взвил коня на дыбы, хлестнул по крупу нагайкою – только парня и видели!
– Узнал княжича-то? – негромко спросил воевода.
– Не, Емельян Ипатыч, не признал, – честно признался Ремезов. – Давненько в Смоленске не был.
– То молодший князь Михайло Ростиславич, старого князя троюродный племянник.
– А-а-а… То-то я так и подумал!
Старый смоленский князь Всеволод Мстиславич внешностью напоминал старьевщика татарина, из тех, что в двадцатые годы ходили по дворам, да блеяли – «ста-арье бере-о-ом!». Узкие – верно, наследие половецкой крови – глаза, реденькая бородка, седые космы по плечам – лысеющая макушка прикрыта черной бархатной шапочкой – скуфейкою. Червленый княжеский плащ – корзно – застегнут на правом плече изящной золотой фибулой, ноги в мягкие сапожки обуты, взгляд хитроватый, с прищуром… еще бы кепочку – и вылитый Владимир Ильич Ленин!
Павел даже головой мотнул, отгоняя неведомо откуда взявшееся наваждение: показалось вдруг, поднимется сейчас князь с лавки, плащик скинет, да руку подаст, картавя:
– Здгаствуйте, здгаствуйте, батенька!
Ой, ну до чего же похож! Еще б кепку.
– Здрав буди, княже, – сгоняя с лица невольную усмешку, почтительно поклонился молодой человек.
– И ты будь здрав, боярин младой. Почто пожаловал?
– Гостинец с наших краев привез, да и так, узнать – когда службу проворить?
– Скоро, боярин, скоро – в генваре месяце, просинцем рекомого, приезжай в детинец-то – конно, людно, оружно. Смотр всем вам заведу.
– Смотр это, княже, понятно, явлюся, – уверил Ремезов. – Про татаровей-то что слыхать?
– Да есть их, немало, – совсем по-ленински улыбнулся князь. – Ты, боярин, садись на лавку-то, в ногах-то правды нет.
– Благодарствую.
Еще раз поклонившись, Павел уселся на лавку близ теплой, щедро украшенной синими поливными изразцами печки, хорошей печки, с лежанкой, с трубой – топившейся по-белому. Вот бы и самому на усадьбу такую печку… мастеров только найти, сговорить…
– А татар да мунгалов не бойся, сговоримся и с ним, – прищурившись, заверил Всеволод Мстиславич. – гостинцы свои на амбар отвези – Емельян Ипатыч покажет. Ему же и список составь – всех своих людей, воев.
– Да вот он, список, – молодой человек с готовностью достал из-за пазухи свернутую в трубочку грамотку, поднявшись с лавки, протянул князю с поклоном. – Самолично для тебе писал, пресветлый княже!
– Ишь ты! Молодец, – одобрительно покивал сюзерен. – От иных так и не дождесся! Постой-ко… – старик вдруг вскинул глаза, словно бы только что – вот сейчас – вспомнил нечто важное, что-то такое, что заставило его посмотреть на посетителя с большим любопытством. – Так ты – Павел, Петра Ремеза-боярина сынок младшой?
– Так и есть, княже.
Всеволод Мстиславич почмокал губами, словно бы поймал ртом надоедливо жужжащую муху, да теперь пробовал ее на вкус:
– Много о тебе слыхал… всякого. Вот и боярин Телятников гонца присылал, жалился… А ты – вон он каков молодец! Может, и батюшка твой зря на тебя осерчал, со двора на дальний удел прогнал?
– Даст Бог – помиримся, – молодцевато заверил молодой человек.
Про батюшку, вообще про всю свою семью он особо-то на усадьбе не расспрашивал, опасаясь прослыть беспамятным недоумком, так, лишь кое-что узнал от Демьянки. Да и что там, на дальней – за болотами, за лесами – усадьбе вообще могли знать?
Значит, осерчал на него родной батюшка-боярин, за какую-то провинность со двора прогнал – вон оно как выходит!
– Дай Бог, дай Бог, – покивав, старый князь махнул рукою и, вдруг ухмыльнувшись, спросил: – Боярина-то Онфимку Телятникова не ты ль приласкал по заду?
– Не, княже, не я, вот те крест! – Ремезов резво перекрестился на блестевший серебряными окладами иконостас в углу, причем клятвопреступником себя не ощущал ни в коей мере – потому как по сути-то был атеист. Ну, подумаешь – соврал немножко. Зачем зря колоться? Человек против себя свидетельствовать не обязан!
– Не ты, значит… Ну-ну… Инда ступай, Павел, заболотный боярин, Петра Ремеза сын. С гостинцами – сказал уже – с воеводой уладь. Прощай! Рад был видеть.
– И я тоже рад, пресветлый княже.
Отвесив прощальный поклон, молодой человек, пригнувшись, дабы не стукнуться лбом о низкую притолочину, покинул княжеские хоромы и, дождавшись в сенях воеводу, последовал вместе с ним во двор, где оба озаботились «гостинцами». Странно было, что этим занимался воевода, а не управитель-тиун… видать, не всем доверял старый князь, даже на дворе собственном.
Пока то, да се – провозились почти до сумерек. Лишь только оранжевый краешек солнца сверкал за дальним лесом, когда заболотный боярин и его люди выехали из детинца и наметом пустили лошадей вниз – в город, к торжищу.
Рыжий Охрятко заметил их еще издали, на паперти у церкви Николы Полутелого ждал. Увидал, замахал руками:
– Сюда, батюшка-боярин, сюда! Митоха-воин корчму присмотрел на славу.
– Корчму? – придержав коня, усмехнулся Павел. – Что ж – иного-то я и не ждал. Заночевать-то хоть там можно?
– Там постоялый двор! Хозяин щей наварил – вкуу-усные! Еще и блины…
– Ну, так давай, веди! – боярин нетерпеливо дернул поводья. – Давно уже и щей вкусить хочется, и блинов, князь-то, скряга старый, не потчевал.
Располагавшаяся тут же неподалеку, чуть ближе к Чуриловке-речке, корчма оказалась просторной и многолюдной – ярмарка. Похлебали щей на славу, поели блинов, запив стоялым медом да пивом, а вот спать пришлось вповалку – в людской, больно много постояльцев наехало в город в базарный день. Но то и хорошо, что много, да и денек неплохим выдался – с князем пообщались, поели, попили – теперь бы и главное дело сладить.
– Ну, что, Митоня, видал купцов? Разговаривал?
– Да уж, уговорился, – наемник усмехнулся в усы. – Тихон Полочанин-гость как раз завтра б с нами и отошел – коли в цене б сладились.
– Завтра?! – боярин уселся на лавке. – Так что же ты раньше молчал?
– Так ведь, пока кушали, пили… А Тихон-то припозднится сегодня – пока всех своих проверит, указания даст. Вот и мы выждем чуток.
– Чуток, – нервно усмехнулся Павел. – Он хоть куда едет-то, этот Тихон?
– В Менск, а потом, может, и дальше – в Краков. Как дела пойдут.
– Так там же, говорят, татары!
– Ну и что? – прищурившись, спокойно отозвался Митоха. – Тихон сказал – татары торговлишке не помеха. Наоборот даже. Он ведь с их стороны – из булгар – с караваном и едет. И еще у него эта… пай… хай…
– Пайцза!
– Да – пайцза есть. Дощечка такая охранная. От самого хана.
Пока болтали, пока, выйдя на улицу, вытряхивали с одежки клопов да блох, уже и совсем стемнело; в черном, мерцающем загадочными – в прозрачных призрачных облаках – звездами небе выкатилась медно-блистающая луна, повисла над каменной колокольней, прищурилась довольно – видно, тоже радовалась легкому морозцу да скрипящему под ногами снегу. Все радовались, особенно – торговые гости-купцы – всем надоела слякоть.
Народец из корчмы уже разошелся почти что весь, так, по углам еще сиживали компании – из тех, кто и ночевал здесь же.
– Вот он, купец, – пройдя вперед, Митоха указал на тощего мужика в справной немецкой суконке – с бритым подбородком, бровастого, вислоусого, с богатой серебряной цепью поверх синей суконной груди.
Подошли, уселись на скамейку напротив; наемник представил боярина, и купец, не тратя зря времени, сразу же заговорил об оплате:
– Дружина твоя меня устраивает, – не отрывая от собеседника маленьких глубоко посаженных глаз, быстро промолвил Тихон. – Язм твоих людей видел, да и Митоха – человеце известный, к кому ни попадя не пойдет.
При этих словах наемник распрямил плечи и довольно закашлялся.
– Маловата, правда, дружина у тебя, боярин, – сделав знак корчемному служке, продолжал торговец. – Ну да и караван у меня нынче невелик. В Менск мыслю попасть, потом – в Берестье, а там, как господь даст – может, и в Краков двину. Митоха сказал – тебе соль нужна? Так, может, я так сразу и заплачу – солью? Десять соляных кругов.
Павел покачал головой:
– Дюжину!
– Да круги-то, боярин, большие, не малые! Да ведь и вас найму до Берестья токмо. – Служка принес кувшинец, налил всем пахучей медовухи, и купчина махнул рукой. – Инда ладно, пусть будет дюжина. А службу обговорим тако: в торговые дела не лезть, все указания исполнять в точности. Спросить чего ль хочешь, боярин? Спрашивай!
– Почему нас – до Берестья только? – поинтересовался Ремезов. – Татар не боишься? Они ведь где-то в тех местах, сказывают.
– Татар как раз не боюсь, – полочанин хвастливо приосанился. – От самого царя-хана у меня пайцза есть – пропуск. А вот прочий разбойный люд, тати – против них-то тебя, боярин, и нанимаю с дружиною. Дюжина соляных кругов, так?
– Так, так.
Торговец покривился:
– Дороговато, да уж ладно… Ну, тогда – по рукам?
– По рукам!
Скрепив договор рукопожатием, договаривающиеся стороны потянулись к кружкам. Купец и приказчики его – молодые парни – долго не засиделись, простились да спать пошли.
– Завтра раненько встаем, не проспите.
– Да уж не проспим.
– Смотри-ко, боярин, – выпив, Митоха кивнул на стол в самом дальнем углу трапезной. – Там не наш ли рыжий?
Ремезов повернул голову:
– Ну да, он – Охрятко. Тоже, видать, не спится. Ты что, Митоня, так смотришь-то?
– Сотрапезник мне его не нравится. Больно на татя похож!
Павел снова оглянулся, внимательно всматриваясь в сидевшего рядом с рыжим изгоем парня. Невысокого росточка, чернявый и весь какой-то дерганый, он что-то негромко говорил, то и дело подливая в Охряткину кружку из стоявшего на столе кувшина. Что они там пили? Вряд ли вино – уж больно шикарно, скорее, просто бражицу или хмельной квас.
– Л-а-адно, – зевнув, Павел поднялся на ноги. – Пойду-ка спать. А насчет этого чернявого завтра у Охрятки спросим.
Завтра не спросили – забыли, да и не до того было: утро началось с суеты – торговцы спешно запрягали возы, накрывали товары рогожками, суетились. Сам Тихон Полочанин, накинув на плечи овчинку, деловито отдавал указания приказчикам:
– С квасцами воз первым ставь… за ним – оружный, посудный, тканевый…
– Ну, а нам куда приткнуться, купец? – погладив кольчужку, осведомился Ремезов.
С утра уже все его люди были окольчужены и оружны, выйдя за ворота, чтоб не мешать собираться торговцам, держали наготове коней.
– Троих молодцов вперед пусти на пять перестрелов, да столько же – на три перестрела – сзади, – без раздумий отозвался Тихон. – Основная же дружина – рядом, здесь, сам тож с ними.
– Согласен, – кивнул головой молодой человек. – Митоха, распорядись-ка.
Собравшись, двинулись наконец-то в путь. Солнце едва только взошло, золотило лучами ели, по синему небу плыли реденькие белые облака, под копытами коней да полозьями санными, поскрипывая, искрился снежок. Ехали быстро – купец хотел поспеть до ночи к полоцким землям, там, на границе, и заночевать – место давно уж было присмотрено, не одним только Тихоном, но и другими. Потому – подгоняли лошадей, не жалели, а полозья саней загодя смазали салом. Тоненьким-тоненьким слоем – зато и катили сани легко, словно б на крыльях летели. Но и зверье позади обоза приманивалось на сальный запах – лисы, одичавшие псы, волки.
– Боярин, людям своим накажи, пусть постреливают, да стрел не жалеют, – обернулся в передних санях купец. – Ничо, зверюг сих мы отвадим… лишь бы двуногие не набежали… ха-ха! Что это у тебя за узорочье? На крыж немецкий похоже.
– Где? – поправив шапку, Павел скосил глаза. – Да где же?
– Вон, позади, к плащу прицепился.
Ремезов сунул за спину руку, нащупал… Ну, точно – крест! Небольшой, но и не маленький – с ладонь, золотой! Хотя… Нет – медный, просто начищенный до золотого блеска. На крючочке подвешен… в сутолоке случайно за плащ зацепился. Или – в опочивальне в людской… Народу много, может, и обознался кто – зацепил. Да нет, скорее – случайно.
– Случайно – не случайно, кто сейчас может сказать? – торговец покачал головою. – Убрал бы ты его с глаз подале, боярин! Сунул бы в переметную суму.
Молодой человек пожал плечами, да так и сделал – отцепил от плаща крест да сунул в мешок. Можно было б и выкинуть – не так уж и ценна вещица – а все же жаль стало. Медь здесь тоже – ценность, чего зря разбрасываться? Весит мало, суму не жжет. Убрал с глаз долой – да и забыл надолго.
Убрав крест, Ремезов, однако же, ухмыльнулся: а купец-то, купец! Все примечает, даже самую мелочь, хотя, казалось бы – какое дело ему?
Ехали быстро, храпели кони, поскрипывал под полозьями снег. Остался позади славный Смоленск-град, ладный, выстроенный из тонкого кирпича – плинфы – собор Борисоглебского монастыря, выстроенный на месте предполагаемого убийства княжича Глеба Святополком Окаянным. Вскоре, за излучиной, пропал и высокий силуэт храма Троицкой монашьей обители, оттянулись пустынные берега, кое-где перебиваемые темными скоплениями изб – селами, деревнями, хуторами.
Уже ближе к вечеру, на крутой излучине, где батюшка Днепр поворачивал круто к югу, остановились на общий молебен – дальше дорожка шла лесом да взбиралась на холм, с вершины которого открывались уже полоцкие земли.
Там и заночевали – свернули к обустроенному роднику, где уже распалили костры и иные гости.
Павел поначалу насторожился было, хотел крикнуть своим, чтоб держались с осторожностью – мало ли кто здесь гужуется, костры жжет? Может…
– Не надо ничего делать, боярин, – со смехом махнул рукой Тихон-купец. – То свои, знакомые. Не разбойники и не тати лесные… Эй, эй! – спрыгнув с саней, торговец замахал рукою. – Здоровеньким будь, Василий, друже.
Какой-то высокого роста мужик, с окладистой бородой и в богатой шубе, поднялся, зашагал, распахнув объятья, навстречу:
– И ты будь здрав, Тихон! Куда собрался? Опять в Менск да в Берестье?
– Туда, друже. А ты?
Купцы обнялись, а вот уже, распрягая коней, принялись обниматься-смеяться и менеджмент среднего звена – приказчики, и служки, – многие были промеж собою знакомы, кто-то кого-то расспрашивал, кто-то громко хохотал, а кое-кто угощал всех медом.
Прибывшие тоже разложили костры, принялись варить кашу да жарить на углях рябчиков, весьма кстати подстреленных по пути воинами молодого боярина Павла.
Боярин – так вот, уважительно, все к нему и обращались – начиная с самого главного гостя-купца. Хотя на самом-то деле все хорошо понимали: ну, разве ж истинный-то боярин, именитый вотчинник, наймется торговый караван охранять? Нет, конечно же… Боярин не наймется, а вот бедный да оголодавший «вольный слуга» – другое дело. В смутные времена совсем уж впавшие в нищету мелкие феодалы – «вольные слуги», «слуги под дворскими», своеземцы – даже в холопство податься не брезговали – все лучше, чем с голоду помирать. Таких вот феодальчиков-«слуг» чуть позже дворянами прозовут да детьми боярскими. Так вот и Павел – как д’Артаньян – кроме шпаги, по сути-то, и нет ничего. Впрочем, у Ремезова-то, как ни крути – а все же три деревеньки! Конечно, не бог весть что, но все-таки. И Заболотица-то – не никем-то жалована, его, Павла, отцом Петром Ремезом данная – вотчина! Значит, все же – боярин… пусть ма-аленький такой, мелкий…
– Господине, где велишь шатры распахнуть? – отвлек от дум подбежавший Митоха.
– А где б ты сам-то поставил?
Наемник довольно скосил глаза – слышал ли кто, как сам боярин – пусть даже и очень молодой еще по возрасту – у него совета спрашивал? Слышали, слышали – и «дубинушка» Неждан, и Гаврила-десятник, и всегда веселый и жизнерадостный Окулко-кат. Даже неловко этакого весельчака палачом звать… ну так, а как же? Профессия, ее-то куда денешь?
Надо сказать, Окулко пользы в пути приносил изрядно – и уставшего подбодрит, и шутку-прибаутку к месту скажет, и на гуслях сыграет, и песню споет. Вот и сейчас, едва дожидался, когда обустроятся да посты выставят. Впрочем, с постов и начать:
– Гаврила, двух своих парней – вон к той елке, ты, Неждан – парочку к тому бережку отправь, чтоб издалека поглядывали.
– Могу спросить, господине? – подал голос Митоха.
– Спроси… Только если – сколько на небе звезд, так знай – не отвечу!
Весело сказанул боярин, пошутил – и люди его, рядом бывшие, от души посмеялись. Вообще, смешливый жил в ту эпоху народец, палец покажи – обхохочется. Вот и сейчас…
– Ты, Митоня, еще про луну спроси!
Наемник, скривившись, сплюнул в снег:
– От зубоскальцы!
– Так ты чего спросить-то хотел? – напомнил Павел.
– Про людей, – рязанец враз обрел всю серьезность. – Ты их, батюшко-боярин, по двое в караул посылаешь. А лучше б по одному было – и не болтали бы, и больше б людей отдохнуло.
– Так-то оно так, – отводя наемника в сторонку, негромко промолвил Ремезов. – Да только ты на воинов моих посмотри. Сколько им годков-то? Пятнадцать, шестнадцать… кому и того нету. Дети ведь еще почти.
Митоха согласно кивнул:
– Инда так, дети.
– Так чего ж мне их поодиночке в ночь ставить? Вдвоем-то надежнее… и веселее.
– Да уж… Во многом ты прав, боярин! – рязанец заломил шапку. – Так как же шатры-то ставить?
– Ставь, как сам думаешь – лучше.
– Думаю – ближе к реке.
– Ставь к реке, ладно.
Павел отправился спать рано, как и все – в те времена и вообще-то по утрам не залеживались, а уж купцам-то в дороге и сам Бог велел подниматься пораньше. Укрылся в шатре волчьей шкурой – хорошо, тепло, жарко даже – да тут же и уснул, слушая, как припозднившиеся у дальнего костерка приказчики тянули негромкую песню.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней!
А это уже пели во сне, то ли до комсомольского собрания, то ли после… скорее, после, ибо Ремезов уже нетерпеливо подпрыгивал за партой, поглядывая на ту самую, так похожую на Полину девчонку… Так похожую на Полину… Нет, если вдуматься – ну, как же так может быть, чтоб какая-то нелепая авария и…
– А Полинка-то с заезжим ляхом сбежала! – заглянув в дверь, глумливо погрозил пальцем рыжий Охрятко.
Покосился на висевшего над коричневой классной доской портрет товарища Хрущева, подтянул кушак и громко, по-лошадиному, заржал.
От этого ржания-то молодой человек и проснулся в холодном поту – вот ведь и приснится же невесть что!
Снова – где-то рядом, показалось, что над самым ухом – захрипел, заржал конь. Странно… Впрочем – а чего странного-то? Не трактор же, а всего-на всего лошадь, вон их сколько у дальних кусточков привязано.
И тем не менее что-то не спалось. Совсем перебило сон.
Выбравшись из шатра, Павел наклонился и, зачерпнув в ладонь снега, потер виски. Потом посмотрел на дальний – на самой опушке – костер, подумал – пойти ли? Оранжевые блики пламени выхватывали их темноты лица двух засидевшихся у костра парней, в одном из которых молодой человек тут же признал Охрятку, другой же… Другого он смог рассмотреть получше, лишь когда подошел ближе – чернявый! Тот самый чернявый дерганый парень, с которым рыжий слуга болтал в корчме. Болтал… И что с того? Мало ли кто с кем болтает?
Интересно только, кто этот чернявый – приказчик? Или простой погонщик-слуга? Скорее, последнее, с чего бы приказчику с изгоем ночь коротать?
Крест этот еще… как же он к плащу прицепился? Не может такого быть, чтоб случайно. Значит, кто-то ж его прицепил. Зачем? Вопросы, вопросы…
– Здрав буди, боярин, – заслышав скрип снега под ногами Ремезова, Охрятко быстро оглянулся и тут же вскочил, поклонился, испуганно кося глазом на своего собеседника.
Тот тоже поднялся на ноги, дернулся – такое впечатление, что бросился бы бежать, да вот, едва пересилив себя, тоже отвесил поклон, да просто поклонился, а, лучше сказать – откланялся.
– Пора мне. Завтра вставать раненько.
Павел глухо хохотнул, глядя вослед исчезнувшему в ночи парню:
– Всем раненько.
Потом перевел взгляд на рыжего:
– А тебе что не спится?
– Костер вот поддерживаю, – с поклоном отозвался Охрятко. – Моя нынче очередь.
– Поня-атно, – Павел уселся на поваленный ветром ствол старой березы, притащенный ближе к костру, да тут же и брошенный – для удобства. – Что пьете-то?
– Да, батюшко, сбитень.
– Плесни!
Ремезов поднял валявшийся на снегу туес из березовой коры, протянул. Охрятко торопливо налил из дымящегося котелка сбитню. Выпив, Павел одобрительно крякнул:
– Хорош!
– На здоровьице, батюшко, на здоровьице!
В иное время молодой боярин, конечно же, не уселся б вот так, запросто, со слугою, подумал бы о своем социальном статусе – нечего таким общеньем позориться! Но вот сейчас, тем более – после недавнего сна… «Полинка-то с заезжим ляхом сбежала!»
Любопытство все ж взыграло.
– Ты мне про Полинку скажи, – поставив туес в снег, негромко приказал Ремезов. – Что за девка-то? И почему сбежала?
– Сбежала – известно почему… – вскинулся было со смехом рыжий изгой… да тут же и сник, прикусил язычок. – Ой! Не гневись, господине!
Парень уж собрался броситься на колени, да Павел цыкнул:
– Сидеть! Давай так: я тебе вопросы задаю – ты отвечаешь, без всяких там поклонов и прочего. Итак…
Охрятко поспешно кивнул и, зачем-то оглянувшись, махнул рукою… словно бы просто так… или – больше на то похоже – подавал знак кому-то. Чернявому?
– Боярин мой прежний – Онфим Телятыч – племянницу свою Полинку замуж хотел пристроить за… за тебя, господине.
– Ну, это я и без тебя ведаю, – негромко рассмеялся молодой человек. – И даже догадываюсь, почему девчонка за меня идти не хотела – сильно боялась. Так?
– Дак ведь как, батюшко, не бояться?! Ой…
– Ну, ладно, ладно, не дергайся, – привстав, Ремезов милостиво похлопал слугу по плечу. – Говори дальше. Полинка – какая она? Что-то я ее плохо помню.
– Правду сказать, господине – ничего в ней красивого нету, – осмелел рыжий изгой. – С лица – да, красива, а все остальное… Ни дородства в ней, ни стати, тощая, как кошка, шустрая… – при этих словах слуга почему-то осторожно потрогал лоб и скривился. – А уж хитрая, змеища!
– Ты про внешность ее расскажи.
– Так я ж и говорю, господине. Глаза – светлые, серые, а волос, как вороново крыло – темен…
– Так-та-ак!
– Тощая, да себе на уме…
– Ты говорил уже, – Павел ненадолго задумался. – Постой… Слушай-ка… ты ее голой видел? Только не лги, по глазам вижу, что лжешь – ну, неужели парни да за девками на реке не подглядывали?
– Ну, подглядывали… издалека токмо.
– А не заметил у нее на левой груди… Ничего такого не заметил?
– Не, боярин – все ж далековато было.
– Жаль, жаль, – носком сапога Ремезов подопнул в костер остывшие угли. – Так Полинка, говоришь, с ляхом сбежала?
– С ним, – убежденно мотнул головою слуга. – Я и раньше еще замечал, как лях на Полинку смотрел, на ярмарке.
– На ярмарке? Он что же – купец?
– Да какой купец? Так, торговый служка. Говорят – из Кракова.
Павел снова засмеялся и поднялся на ноги:
– Ну, вот – будет теперь ваша Полинка польской пани. Ладно! Пошел я спать. За сбитень спасибо.
– Покойной ночки, боярин-батюшко.
С черного, как плащи ночных злодеев, неба, щурясь, смотрели вниз желтые звезды. Зацепившийся за вершину высокой сосны месяц, казалось, так и повис там, не в силах сдвинуться с места. Нет… вот чуть-чуть сдвинулся.
Ремезов запрокинул голову и, услышав за спиной чьи-то осторожные шаги, обернулся, резко выхватив из-за пояса нож. Кому не спится? Кто тут в ночи бродит? Эх, жаль, меч-то остался в шатре.
– То я, боярин, – стряхивая с плеч снег, выбралась на опушку приземистая, с квадратными плечами, фигура в нагольном полушубке.
– Митоха! – узнав, молодой человек убрал нож.
– Ходил, проверял сторожу, – глухо пояснил наемник. – Едва стрелу в грудь не схватил – кто-то шмальнул из кусточков. Да опосля бежать бросился – язм за ним, так он, тать, на лошадь – унесся, только и видел. Видать, места тутошние ведает. Ой, боярин, нехорошо это!
Ремезов настороженно огляделся по сторонам, словно бы силясь узреть что-то в загадочной тьме ночного зимнего леса:
– Думаешь – обложили уже? Нападут?
– Не знаю, боярин, не знаю, – покачал головою Митоха. – Посейчас – не думаю, чтоб напали, слишком уж народу здесь много. А вот завтра… Завтра все случиться может.
– Так заранее приготовимся, – поправив нож, Павел глухо усмехнулся. – Выставим усиленную сторожу.
Рязанец хохотнул:
– Она у нас и так, боярин, усилена. Одначе не так тати лесные страшны… И крыж твой у меня из головы нейдет. Кто-то ж его к твоему плащу подвесил. Зачем?
– Вот и я думаю – не сам собой прилепился.
– А крыж-то немецкий, орденский.
То-то и оно, что орденский. Павел прикрыл глаза, вспоминая немецкие рыцарские ордена в Прибалтике: меченосцы, тевтонцы… впрочем, меченосцев нет уже, после поражения от литовцев, примкнули к тевтонцам – деваться некуда. Так сказать – аншлюс. Нынче еще – ливонцы – отделение Тевтонского ордена в Ливонии… А эти, верно, могли бы сюда добраться… при желании. Хотя это же через Литву, да через все полоцкие земли идти. Однако почему б и не пройти? Никаких четких границ – тем более пограничников – нет – одни леса – дубравы, рощи – без конца да без края. И еще не известно – может, полоцкий князь с немцами орденскими задружился, скажем, против тех же литовцев или поляков. Или – против епископа рижского. Почему бы и нет? Все может быть, настоящая-то жизнь – она куда сложней, чем в школьных учебниках описано.
– Может, Тихона предупредить? – подумав, предложил Ремезов. – Вот прямо сейчас и разбудим, дело такое…
– Не стоит, боярин, – наемник отозвался приглушенным шепотом. – Не нападут они сегодня… кто бы ни был – немцы, литовцы, тати лесные – уж слишком много народу сейчас тут. Если что и будет, так завтра – и то, ежели нападут, так еще неизвестно, на нас ли? Тут как посмотреть. Так что не стоит сегодня людей зря тревожить. Завра Тихону Полочанину скажем.
Выслушав собеседника, Павел согласно кивнул:
– Завтра так завтра.
Оба одновременно вздрогнули: где-то не так уж и далеко, за оврагом, послышалось лошадиное ржание. Потом завыл волк.
– Не спится и зверю лесному, – покачав головой, ухмыльнулся рязанец. – Да и с чего ему спать? Волка, чай, ноги кормят.
– Да всех волков, – зевнув, Ремезов махнул рукою. – Двуногих – в первую очередь.