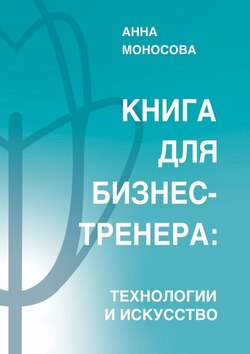Читать книгу Книга для бизнес-тренера. Технологии и искусство - Анна Моносова - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Диалог о транзактном анализе
ОглавлениеТренеры часто жалуются на то, что группа или отдельные участники ведут себя не так, как хочется или как запланировано. Что они не проявляют активность и не делают упражнения. Что они безответственны, не хотят сами ничего делать, а на тренинге от их активности столько зависит… Что они не видят своей ответственности, а валят все на окружающих, а тогда, конечно, они ничему не хотят учиться, так как не они виноваты, а клиенты, подчиненные, руководство, жизнь… А еще участники бывают такими самоуверенными! И все новое – в штыки! И во всем они правы, и все они знают – кошмар!
А что, разве нет таких участников?..
Участники есть разные. А задача тренера – управлять. Активностью группы в частности.
Я предлагаю использовать для управления взаимодействием тренера с группой схему транзактного анализа, которую много лет назад предложил Эрик Берн. Думаю, сразу станет понятно, о чем идет речь, как только я скажу об основной идее этой схемы – о том, что в каждом человеке есть три составляющих, три возможных роли, позиции, которые автор назвал в соответствии с теми ролями, которые человек исполняет в жизни, – Родитель, Взрослый, Ребенок. И так же, как в жизни, Родитель – хранитель традиций, Взрослый – самостоятельно мыслящий и действующий человек, а Ребенок, играя, познает мир. Схема оказалась настолько удобна и наглядна, что в большинстве книг, посвященных самому разному взаимодействию людей – на переговорах и в организации, в психотерапевтической группе и при защите от чужого влияния – мы сталкиваемся с идеями, основанными на этой схеме. Эта книга – не исключение. В ней так же, как и на тренинге, я хочу с помощью этой схемы проанализировать такие вопросы, как соответствие психологической позиции цели, психологическая ответственность тренера и участников, причины конфликтов и т. д.
Начнем с описания схемы и психологических позиций. Я опишу их коротко, а тех, кого эта тема заинтересует, обращаю к автору теории. Думаю, лучше него никто эту идею не опишет схему, поэтому рекомендую прочитать Эрика Берна. Книги «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры» написаны легко и увлекательно и очень популярны. Кстати, в отличие от других книг Берна, рассчитанных на профессионалов. (Хотя для более глубоко транзактного анализа группы очень полезна книга Берна «Групповая психотерапия»).
Много лет назад с этим был связан один забавный случай. Боюсь опять предстать динозавром из прошлого века, но случилось это в те времена, когда книги достать было очень трудно. А новые, иностранного автора уже ставших популярными вышеуказанных книг – вообще невозможно. Книги, как и продукты, в частности, распределялись по предприятиям, где правом первого выбора, как понятно, пользовалась администрация. Поэтому, когда в организацию поступило пять экземпляров только что переведенной книги Эрика Берна с завлекательным названием «Секс в человеческой любви», дальше отдела кадров и бухгалтерии распределение не пошло. Психологи, в большом количестве работавшие в организации, продолжали пользоваться английским вариантом в ротапринтном издании. Но недолго. Книга была недешева, а ее содержание – в той части, которую смогли одолеть начальственные дамы, – крайне их разочаровало. Так что через неделю книги в полном объеме попали по назначению. Хотите представить этот случай поярче – откройте эту книгу и попробуйте прочесть ее глазами женщины-администратора, впервые в жизни получившей в руки официально изданную книгу со словом «секс» на обложке.
В общем, почитайте «Игры, в которые играют люди», получите удовольствие. И узнаете множество ситуаций и образов, пришедших из этой книги, которые наверняка вам знакомы. А я опишу все очень коротко.
Итак, Родитель.
Он может быть критическим, жестким. Тогда он отклоняет (прежде всего новые вещи), автоматически судит и оценивает (например, других людей), ищет виноватых, не терпит возражений (спорит), наказывает, употребляет специальную профессиональную лексику или иностранные слова, которые его собеседник не знает, обескураживающе авторитетен.
Он может быть мягким, опекающим, тогда он помогает, признает другого. Он разрешает, позитивен, ценит, оценивает, беспокоится, готов помочь, проявляет заботу, оберегает, ободряет, благосклонен, учит, спасает.
Но если человек на позиции Родителя, он обязательно уверен в своей правоте, не отделяет свое мнение и объективную реальность друг от друга. Он делит весь мир на таких же, как он – Родителей, и всех остальных – детей, за которых Родитель берет на себя ответственность.
Внешние проявления удобно анализировать по трем направлениям – что человек говорит, как он говорит и как он себя при этом ведет.
Вот основные внешние проявления ролей. Обычно участники легко припоминают какой-нибудь образ критического, давящего Родителя. Это может быть как частный персонаж, так и общеизвестный. Зачастую вспоминаются политики. Например, из репертуара Родителя знаменитое «однозначно» Жириновского. Литературные и киноперсонажи с Родительской позицией запоминаются как наиболее яркие: Ляля Раневской – героиня Подкидыша с ее «Муля, не нервируй меня», Маргарита Павловна из «Покровских ворот» – помните ее абсолютную убежденность в своей правоте и изумление при столкновении с несогласием: «Ну, и что все это значит»? А еще Фрекен Бок из «Малыша и Карлсона» и многие другие.
Основные слова Критического Родителя: «Ты не должен…», «Это ваш долг!», «Ваша точка зрения неправильна…», «Все всегда так делают…», «Плохо…», «Это бессмысленно», «Это безобразие».
Родительская позиция также проявляется в междометиях и частицах, показывающих однозначность и риторичность высказываний: «-ка», «-же», «-ли», «ведь». Можно сравнить фразы: «Вы хотите к нам присоединиться?» и «Вы же хотите к нам присоединиться?» «Скажите, когда начнется занятие?» и «Скажите-ка мне, когда…?», «Скажите же мне, когда…?», «Ну и когда же …?»
На вопросы с частицами «ведь», «-ка», «же» отвечать не хочется, потому что вопрос становится риторическим, а риторическим он становится из-за того, что Родитель на самом деле ничего не спрашивает, он все знает заранее.
Родительскую позицию отличают особая интонация – снисходительная, надменная. И манера говорить обвиняюще, громко (или опасно тихо), резко, оскорбленно, с отвращением, приказывая.
Внешне Критический Родитель тоже выделяется. Его отличают статичная, застывшая (но при этом выразительная) поза; наморщенный лоб; жесткий, оценивающий взгляд; неодобрительное покачивание головой; самодовольные или грозящие жесты.
Есть и Заботливый Родитель, внешне он довольно сильно отличается. И персонажи с такой позицией чаще вызывают не смех, а сочувствие вместе с желанием отгородиться от опеки и навязываемых эмоций – чувств долга и вины.
Вот слова, которые он часто произносит: «Хорошо, молодец», «Я очень хорошо тебя понимаю», «Не волнуйся».
В его речи множество уменьшительно-ласкательных оборотов – папку он называет папочкой, ручку – ручечкой, окружающих – Машеньками, Катеньками, Ванечками и т. д. В общем, опекает весь мир вокруг себя.
Говорит он тепло, успокаивающе, сочувствующе.
И внешне он выглядит мягко, обеспокоенно. У него улыбающееся лицо, ободряющие и успокаивающие жесты.
Взрослый объективен, нейтрален, открыт для других мнений и это чувствуется во всех его внешних проявлениях.
Его типичные высказывания: «Как мы будем действовать?»; «По какой причине мы не можем задержать заседание, по вашему мнению?»; «Каким образом это произошло?» (без скрытой агрессии); «Думаю, что в первом случае мы достигнем цели, так как…»; «Я думаю, что реакция может быть следующей…»; «Я думаю, это возможно»; «Эта точка зрения мне не известна».
Из высказываний понятно, что Взрослый разделяет свое мнение и абсолютную истину, стремится выяснить объективные факты, готов выслушать другую точку зрения и принять взвешенное решение.
Говорит он спокойно, конкретно, уверенно, нейтрально, ясно и четко.
Держится он прямо, лицо обращено к партнеру, смотрит внимательно и сосредоточенно, активно слушает.
Взрослый собирает информацию, осмысливает и применяет (включая и собственный опыт), развивает альтернативы, сравнивает и осваивает их; находит решения, ограничивает автоматические реакции Родителя и Ребенка, формулирует цели, подводит итоги.
Ну а Ребенок живет эмоциями. Из него так и сыплется: «Здорово! Класс!»; «Высший сорт!»; «Я хочу…»
У него бурная интонация, говорит он, по большей части, громко, звонко и высоко, открыто и сердечно, много смеется и легко плачет.
Ребенка легко узнать по эмоциям, буквально написанным у него на лице, которое может быть любопытным, взволнованным, лукавым, расстроенным, усталым.
Он играет и заигрывает, легкомысленно строит гримасы, веселится или плачет – все это ярко и заразительно.
Ребенок не заботится о реакции окружающих, он беспечный, открытый, направленный на себя. Он может быть также манипулирующим, демонстративным.
И самое главное, – человек переключается с одной позиции на другую. Нет плохой или хорошей позиции, есть позиции, адекватные цели или не адекватные ей. Есть очевидные соответствия – анализировать финансовые результаты лучше с позиции Взрослого, общаться с друзьями за чашкой кофе – с Детской, давать советы и опекать – с Родительской. Если финансовый анализ вести с детской позиции, а обсуждая за кофе поездку на выходные загород, произносить фразы вроде «С учетом последних поступивших данных целесообразно…», результаты будут, как минимум искажены. Но в работе тренера есть множество неочевидных ситуаций, где неадекватная психологическая позиция препятствует достижению цели. И наша задача – разобраться, какую цель с помощью какой позиции лучше реализовывать и как управлять своей позицией и позицией группы и участников.
И вот начинается взаимодействие. Начнем с взаимодействия двух человек.
Два Родителя обмениваются мнениями, как правило, оценивая других – «детей». «Ну и молодежь нынче пошла» – типичный пример бытового высказывания. «Чем только думали менеджеры, заключая такой контракт!» – типичный пример обмена мнениями двух Родителей на работе.
Взрослые обмениваются фактами; если такой контакт довести до логического предела, получим компьютеры в сети.
Дети играют. И обмениваются эмоциями.
Кроме транзакций с участием одинаковых ролей, Родитель может обращаться к Ребенку – с приказом, поощрением, наказанием, оценкой, советом, опекой. Ребенок может отвечать (или обращаться сам) капризом или послушанием, просьбой.
А как взаимодействует взрослый с ребенком?
Если не затрагивать сейчас сложные ситуации, в которых имеют место «двойные транзакции», когда человек, реально находящийся на одной позиции, инструментально реализует другую, то давайте примем тот факт, что Взрослый во всех остальных видит Взрослых. И обращается соответственно. Как в сценке, описанной Викентием Викентиевичем Вересаевым: «Студент, погруженный в свои мысли, видит горько рыдающую девочку. Он решает, что надо ей помочь и, подойдя, спрашивает: „Ты по какому вопросу плачешь“?»
Вернемся к схеме. Обратите внимание, что все описанные нами транзакции были взаимодополняющими, параллельными. Взаимодействие идет гладко, бесконфликтно. А теперь представьте себе, что персонаж, к которому с Родительской позиции обращаются как к Ребенку, вместо того, чтобы послушаться («Хорошо, я так и сделаю») или не послушаться, начать капризничать («Ну почему опять я? Я не хочу!») просто не принимает сам факт обращения к нему как к ребенку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать свои действия, он будет обсуждать сам факт подобного обращения («А ты кто такой, чтобы говорить мне это?»). То есть, он сам обратится к собеседнику как Родитель к Ребенку.
Вот подобный пример на тренинге. Ситуация возникает при разборе инструментов планирования на тренинге по менеджменту.
Руководитель отдела Х (продажи): Да, тебе бы стоило при планировании выхода водителей это учесть.
Руководитель отдела Y (логистики): Мои водители выходят вовремя, ты с заказами разберись, прежде чем в мой отдел соваться.
Х: Они вовремя выходят через три раза на четвертый! Ты вообще посчитай, сколько мы теряем из-за их опозданий!
Y: При чем здесь выезд, мы все что к нам поступило вовремя – делаем. Твои продавцы заявку не в состоянии заполнить, ты с этим справиться не можешь. Легче чужую работу критиковать. Со своей разберись!
Переходят на крик, тренер принимает меры.
Заметьте, что каждый следующий выпад – сильнее предыдущего. Это естественная реакция, такая же, как в жизни. Если нападают на Ребенка и за него вступается его Родитель, то ответ Родителя не будет адекватен нападению, он окажется сильнее. Так же и внутренний Родитель, вступаясь за внутреннего Ребенка, отвечает сильнее. А поскольку его ответ является, в свою очередь, нападением на Внутреннего Ребенка оппонента, то следующий шаг, делаемый Внутренним Родителем того, на порядок сильнее. Так происходит эскалация конфликта. Конечно, самое главное – понять, что делать. И вот здесь, прежде чем выбрать нужную позицию, стоит обратиться к цели тренера. Чего он хочет достигнуть? Спонтанным желанием участников обычно бывает прекратить конфликт. Но, во-первых, это не всегда наилучший выход, а во-вторых, это негативная формулировка цели. Описывая ситуацию, из которой хочется выйти, ничего не говорится о том, куда надо прийти. Можно выйти не в ту сторону, потом придется долго обходить в поисках нужного направления. Поэтому лучше все-таки сразу говорить о том, куда надо прийти. Сейчас мы в этом убедимся.
Итак, у нас начинается конфликт. Бытовой, например, в транспорте.
Наш оппонент (или оба спорщика – в случае, если вам досталась роль третейского судьи) находится на Родительской позиции. Он говорит: «Чемодан уберите» «Понаставили тут – пройти негде».
Стратегия №1 – подстроиться и ответить с той позиции, к которой он обращается, то есть детской – послушного Ребенка: «Конечно, я сейчас уберу, извините…» либо капризного: «Ой, а куда же я уберу?».
У Агаты Кристи есть прекрасное описание такой стратегии. В диалоге героя со своей престарелой страдающей склерозом родственницей, выслушав еженедельные обвинения в том, что он забыл сообщить ей о своем браке, состоявшемся 30 лет назад, «…Томми не стал спорить. Таппенс однажды дала ему серьезный наказ: «Если кто-то в возрасте старше 65 лет находит у тебя недостатки, – сказала она, – никогда не спорь. Никогда не пытайся отстаивать свою правоту. Сразу же извинись и скажи, что ты виноват и больше никогда этого не будешь делать». …Томми осенило, что именно этой линии поведения и надо придерживаться с тетушкой Адой.
– Весьма сожалею, тетушка Ада, – сказал он – боюсь, что со временем люди становятся забывчивыми. Не у каждого же, – не моргнув глазом, продолжал он, – такая удивительная память, как у вас.
Тетушка Ада самодовольно ухмыльнулась.
– Тут ты прав, – согласилась она – Прости, если я приняла тебя несколько грубо…»
Итак, конфликта гарантированно не будет, вам еще и помогут с чемоданом. Конечно, поворчат и «повоспитывают».
Плюсы стратегии – отсутствие конфликта, возможная помощь со стороны Родителя.
Минусы – придется выслушать нотации. Для ситуации в трамвае минусы на этом, пожалуй, заканчиваются. А вот для деловой ситуации только начинаются. Поскольку теперь тебя воспринимают как Ребенка – несолидного человека, нуждающегося в помощи и подсказке. Каково будет пытаться отстоять свое мнение перед подобным образом настроенным собеседником? На первый взгляд может показаться, что в деловой ситуации никто и не будет подобным образом разговаривать.
Однако это не так. Я даже не буду останавливаться на бесчисленных примерах попыток подчиненных таким образом воздействовать на своих руководителей и их последующем удивлении и негодовании – что их не воспринимают всерьез. Я буду говорить непосредственно о тренинговых ситуациях. Вот как выглядит первая попытка участников тренинга тренеров ответить в игре на агрессивный Родительский выпад «ученика» – например, такой: «Да что вы можете рассказать нам о продажах, если сами не продавали»! Бывают и оправдания, и попытки убедить, но самый распространенный вариант – попросить участника о помощи. Причем авторы такого варианта так и обосновывают свой выбор – «после такой просьбы он уже не сможет меня ругать, наоборот, будет помогать». Что это, если не Детская позиция в чистом виде? Причем с сознательным расчетом пробудить в участнике Родителя. Каковы шансы на серьезное отношение этого участника – а то и того хуже, группы – к тренеру после этого?
Интересно, что парадокс этот не очевиден, и на тренинге многие участники с удивлением понимают, что многие проблемы «несерьезного отношения» группы к тренеру связаны с тем, что тренер в каких-то ситуациях обратился к группе как Ребенок к Родителю.
Теперь я хочу вернуться к выходу из ситуации. Давайте оценим стратегию №1 с точки зрения выхода их конфликта. Если не надо продолжать деловые отношения, то это прекрасный выход из конфликтной ситуации. А если надо, то данная стратегия не подходит. Именно это я имела в виду, когда говорила о негативной постановке цели – мы прекратили конфликт, но оказались в точке, которая лежит в стороне от нашего дальнейшего пути. Поэтому предлагаю переформулировать цель – вместо «прекратить конфликт» сказать, например, «установить ровные деловые отношения». А наилучшие деловые отношения – это взаимодействие с позиции Взрослый – Взрослый.
Очень важный момент: Родитель в остальных людях видит либо Ребенка, либо такого же, как он Родителя. А Взрослого он не видит и не слышит. Поэтому контакт сам собой при таком ответе не возникнет. Первое, что нужно сделать, – это изменить позицию собеседника с Родителя на Взрослого. Чуть позже мы обратимся к способам, с помощью которых это можно сделать.
Чтобы учесть все возможные варианты, рассмотрим и стратегию ответа с позиции «Родитель – Родитель». Это непростой вариант, поскольку Родительская позиция – силовая; нужно определить, есть ли достаточная сила для такого ответа. Ситуация осложнена тем, что сразу Родителя в оппоненте не признали. Значит, надо не просто воздействовать, но изменить мнение о себе, что всегда сложнее.
Если есть в себе достаточно сил, то успешным с точки зрения прекращения конфликта может оказаться и ответ «Родитель – Ребенок».
Гастроли москвичей на Кавказе. Утром поезд прибыл на станцию Самтредиа. Все артисты направились в буфет. А Гаркави с газетой в руках присел на подножке автобуса, который должен был везти их дальше. К нему подошел милиционер и начал ворчать:
– Водитель, ты почему поставил здесь автобус? Не знаешь, что здесь стоянки нет? Уезжай отсюда, да побыстрее…
Гаркави слушал-слушал, потом, медленно сложив газету, громоподобно рявкнул:
– В чем дело?!
Милиционер попятился назад и смущенно произнес:
– Виноват, товарищ генерал.
По А. Хорту
Итак, прекратить конфликт, избежать его можно с разных позиций. Но только Взрослая позиция обоих собеседников надежно обеспечит дальнейшее конструктивное деловое взаимодействие.
Важно и то, что группа тоже может идти по пути наименьшего сопротивления и вставать на Детскую позицию, когда тренер обращается к ней с Родительской. Фактически спонтанной реакций группы на обращение Родитель – Ребенок будет или конфликт (группа ответит РД) или Детская позиция группы, влекущая за собой ту самую безответственность.
Гибкость выбора позиции обеспечит адекватность поведения в разных тренинговых ситуациях. Способ воздействия Родителя – приказ, силовое давление. Способ Взрослого – убеждение, а Ребенка – эмоциональное заражение. Поэтому начать игру, разминку, проявить эмоции проще всего с позиции Ребенок – Ребенок, просить – с позиции Ребенок – Родитель, предъявлять аргументы, передавать информацию, закреплять ответственность и надолго убеждать эффективнее с позиции Взрослый – Взрослый; приказывать, инструктировать, опекать – адекватно с Родительской позиции. А светская беседа – это взаимодействие позиций Родитель – Родитель.