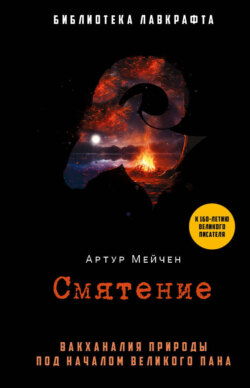Читать книгу Смятение - Артур Мейчен - Страница 3
Артур Мейчен[1]
ОглавлениеИз всех известных мне ныне здравствующих людей ни один не занимает моих мыслей так прочно, как истинный творец, каковым является Мейчен; и под именем этим я подразумеваю певца истины – истины о том, что вселенная вакхальна и жаждет эмоций, истины, которую сама вселенная втайне решила скрыть от нас, дабы мы и впредь пребывали в скучном неведении. Ибо глаза наши лгут нам. «Перевернутая чаша», под которой мы живем, как в «клетке», по сути своей и не чаша вовсе; звезды – отнюдь не крохотные точки, а луна – не глупый кусок сыра, то целый, то надрезанный, бездумно парящий в небесах. В действительности скорость луны поистине полоумна; дерево изнутри подобно Уолл-стрит, что толпами прохожих пестрит, а взгляни на цветочный лепесток под микроскопом, и узришь в нем цепи вагонов, усердно прокладывающих себе путь вперед; и всюду звенят песнями скрипичные струны, и каждый миллиметр эфира наполнен трелями, единящими нас с Плеядами, и свет мчится сквозь пространство, и тысячи солнц содрогаются, порою сталкиваясь в суете и извергая гигантские облака газа, и луны подвергаются «разрушительному сближению», падая в пучины печей; и пока я пишу эти строки, пальцы мои и сердце со всех сторон пронзают радиоволны, однако я не вижу их, не чувствую и – о, кто избавит меня, несчастного, от проклятья скуки?
Повсюду тайны, все вокруг в сговоре!.. Кроме, быть может, метеоров – этих огненных знамен, которыми величественная планета размахивает в полете; но и они лишь слегка проливают свет на положение вещей, словно насмехаясь надо мною. И даже их я не вижу и вполовину такими, какие они есть в действительности, и как же я, должно быть, скучен, если ученый не восстанет, чтобы сказать мне: «Вселенная вакхальна! Вакхальна!» – но восклицательный знак здесь мой, ибо у него нет времени, он слишком поглощен тем, что прислушивается к чувствам; и тогда-то мне на помощь приходит поэт, ведь он слышал слова ученого, и у него было время восхититься ими и намеками поделиться со мною, и он, подмигнув, говорит: «Нет скуки и в помине! Мне известно кое-что; известен берег мне, где чабреца в избытке!»[2] – И если спросит кто его: «И это все?» – он снова подмигнет: «Добавить нечего; я дал намек: глаз не видал, сердце не ведало; звеня мелодичными нотами, сжимаясь от переполняющих чувств, кружится вихрем; волшебство! Дурман! Добавить нечего».
Так ли? Волшебство? Если это выдумка, то нет в ней ни малейшего интереса, ни значения; однако ученый кивнет – «да, факт», – и поэт, умываясь слезами, призовет Господа в свидетели. Роль ученого в искусстве, однако, Мейчен не рассматривает; он полагает, что искусство предшествовало науке, что «поэзия не имеет ничего общего с научной истиной», и не вполне понимает, что есть наука, принимая за «научный факт» утверждение «А любит Б», а потому не знает, что наука есть мать искусства – или, скажем, знает, но не осознает, ибо искусство, по его словам, достойно поклонения; но, разумеется, прежде чем поклоняться чему-то, необходимо понимать суть этого предмета, изучить его, разобраться в положении вещей; а знать что-либо о Порядке есть наука, и знать больше – значит, поклоняться истовее.
Но Мейчен принадлежит к типу исследователя-творца, к мильтоновскому типу, для которого характерна привычка к запоминанию, а не к типу ученого-творца, натренированного на восприятие, к коему типу до сих пор относился лишь Гёте, а другой, который придет на его место, все возродит – и тогда Уэллс и Верн покажутся лишь тенями, предзнаменующими явление великого последователя. Что же до исследователя-творца, то стоит вспомнить, с каким одобрением Мейчен цитирует фразу Россетти: «Я не знаю, вращается ли Земля вокруг Солнца, и меня это не волнует», – фразу, которую произнесла бы корова в перерыве между пережевыванием травы, если бы обрела дар речи.
Суть мировоззрения Мейчена отражена в его «Иероглифике»: «И золото той земли прекрасно»[3], – однако мы видим здесь не «право утверждать», но недостаток осмотрительности, циркумспекции, или скептицизма (спек-, скеп-, смотрите внимательно), которые в интеллекте воспитываются только научными упражнениями. Его тема – это тема художника, «вселенная вакхальна и жаждет эмоций», однако какие неожиданные исключения Мейчен допускает в вопросе эмоций! Высокое искусство, полагает он, не оплакивает вселенную и не насмехается над нею, а лишь вздыхает по ней. Он проводит грань между «эмоциями» и «чувствами», хотя, разумеется, в психологии подобного разделения не существует: чувство и есть эмоция. Если кто-то отправляет женщине телеграмму со словами, что ее муж мертв, и она ударяется в слезы, то неужели это, спросит он, есть художественная литература? Однако очевидно, что это – вакхальное настроение, этот плач во вселенную проистекает из веры женщины в смерть ее мужа! Если же я сумею заставить ее плакать во вселенную рассказом о некоем, скажем, Гекторе – чьем-то чужом муже, – которого, как ей доподлинно известно, в реальности не существует, – то как велик будет мой подвиг и как художественна «литература»!
Но Мейчен преисполнен «мнений», предубеждений, идиосинкразий, напоминая тем самым толстого доктора Джонсона[4], что идет вдоль железного забора и тростью стучит наудачу по каждой перекладине. Половина вселенной вызывает в нем отвращение, другую же половину он страстно прижимает к сердцу; однако благосклонность его зачастую предвзята, а ненависть – субъективна: сложно предугадать, что он обнимет, а что – отринет. И никогда он не переменится: горы рассыплются в песок, но он останется прежним. Есть люди, которые, поймав себя на тех же мыслях, что терзали их несколько лет назад, предпочли бы наложить на себя руки; но Мейчен слишком великолепен, чтобы меняться. И он спорит, и есть в этом что-то от Сократа, но мыльный пузырь его аргументов легко лопнет от укола современного интеллекта – что, впрочем, верно и в отношении Сократа; воистину, тональностью души и грузом знаний он ближе к Платону.
Он утверждает, что «литература есть выражение догм католической церкви», и на мгновение может показаться, что именно это он и имеет в виду – но нет; в этих словах его есть что-то еще, в них кроется истина, но лежит она не на поверхности. Он говорит: «Рационализм потребует от вас: либо назовите точную причину, зачем вам посещать мессу, либо откажитесь от ее посещения; но вы должны ответить так: я не могу назвать причин, почему мне нравится „Одиссея“, однако невозможно поспорить с тем, что она мне нравится; таким образом, я доказал противоречивость вашего посыла». И как же он доволен собою; враг повержен. Однако, опять же, здесь отсутствует параллелизм между «нравится („Одиссея“)» и «посещать (мессу)»; параллелизм присутствует между «нравится (идти)» и «нравится (читать)». «Посещать» мессу можно не только ради удовольствия, но и для того, чтобы «стать лучше» или что-то вроде того, – и рационалист скажет: причина тому известна. И это не единственный пример. Но не ради дискуссий читаешь Платона: он не может дискутировать, ибо сознание древних не было в достаточной степени осмотрительно, обучено скептицизму и крепко, за тем лишь исключением, когда, как в случае с Евклидом, имело место рассуждение на ученические темы.
И все же его строки завораживают, как и строки Мейчена, и сердце заходится в танце. Есть в мире существа, что бегать не способны, зато летать умеют. Когда Мэтью Арнольд[5]писал о «победоносном надбровье» (в стихотворении о Шекспире), это, разумеется, было чистой воды викторианством, ведь выдающимися бровями Шекспир похвастаться не мог – разве что на портретах, где он тщетно пытается подражать Холлу Кейну[6]. Выразительные надбровья были у Ньютона, у Эдисона; у Шекспира же, очевидно, нет, ибо, будь они столь же выдающимися, мы решили бы, что тяжкие думы терзают его; но что за думы? Нам ясно, о чем думал Эдисон, но Шекспир обладал иным: теплотой, крыльями!.. Не Гёте – у того были и брови, и крылья; то и другое само по себе достойно восхищения, а крылья без бровей зачастую по какой-то счастливой случайности тревожат самую сердцевину истины.
Таким образом, легко продемонстрировать, что душа «Иероглифики» есть истина – истина, на которой основаны в большинстве своем произведения Мейчена. Полагаю, истинным мейченизмом можно считать «Хроники Клеменди»; в «Великом боге Пане» и «Трех самозванцах» прослеживаются, пожалуй, следы По и Стивенсона. Нигде у него не найдешь ничего «заурядного» или «нечистого»; хотя забавно, что в самом возвышенном «заурядный читатель» обнаруживает бесчинство «непристойностей». Однако в действительности главной темой остается для него роза, всегда роза: даже в письмах, ибо теперь, когда я пишу эти строки, я перечитываю старое его письмо, изобилующее упоминаниями «розы»; и хотя я не знаю наверняка, о какой розе он говорит, я знаю, что есть роза – Шарона, – и ему известно о ней, ибо ее ароматом пропитались и его одежды, и страницы. Вот как он говорит: «Страстное стремление, присущее», – как опрометчиво! – «человеку, вынуждает его воздеть взгляд, высматривая в бесконечности океана мифические счастливые острова, выискивая Авалон, скрывающийся за заходящим солнцем», – что это, если не безумный танец человека, укушенного тарантулом?
Он любит Бога, он поражен глоссолалией и вместе с тем – даром к языкам; сотките хоровод тройной, смиренно взор пред ним склоняя, ибо испил он млеко Рая и вскормлен медвяной росой[7].
Мэтью Фипс Шил
2
Цитата из комедии Уильяма Шекспира (англ. William Shakespeare, 1564–1616) «Сон в летнюю ночь» (англ. A Midsummer Night’s Dream, 1600). Перевод А. В. Третьяковой.
3
Быт. 2:12.
4
Подразумевается Сэмюэль Джонсон (англ. Samuel Johnson, 1709–1784), великий английский поэт, ученый и просветитель, создатель «Словаря английского языка» (англ. A Dictionary of the English Language, 1755) и автора монументальных «Жизнеописаний прославленных английских поэтов» (англ. The Lives of the Most Eminent English Poets, 1779–1781).
5
Мэтью Арнольд (англ. Matthew Arnold, 1822–1888) – английский поэт, культуролог и литературовед.
6
Сэр Томас Генри Холл Кейн (англ. Thomas Henry Hall Caine, 1853–1931) – английский романист и драматург, секретарь Данте Габриэля Россетти.
7
Строки из незавершенной поэмы «Кубла Хан, или Видение во сне» (англ. Kubla Khan; or, A Vision in a Dream, 1818) Сэмюэля Тэйлора Кольриджа (англ. Samuel Taylor Coleridge, 1772–1834). Перевод А. В. Третьяковой.