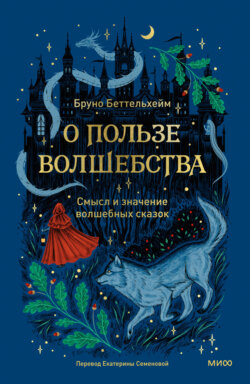Читать книгу О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок - Беттельхейм Бруно - Страница 2
Введение. Борьба за смысл
ОглавлениеЕсли нам мало жить, наблюдая бег минут, и если мы стремимся к подлинному осознанию собственной жизни, нам следует искать ее смысл. Обретение смысла жизни – самое важное и самое трудное достижение. Сколь многие утратили стремление жить всерьез и волю к жизни оттого, что ее смысл ускользнул от них! Понимание человеком смысла собственного существования не приходит внезапно с достижением того или иного возраста, в том числе и зрелого. Напротив, обретение надежного понимания того, в чем состоит (или должен состоять) смысл моей жизни, представляет собой необходимое условие формирования психологической зрелости. И достичь ее можно лишь в итоге длительного развития: на каждом этапе жизни мы ищем (и должны суметь найти) крупицу смысла, соответствующую тому, какое развитие получило к данному моменту наше сознание и что мы способны уразуметь.
Вопреки сюжету античного мифа мудрость не является нам сразу вся целиком, воплотившись в окончательную форму, подобно Афине из головы Зевса. Можно сравнить ее обретение со строительством или путем, которым мы следуем шажок за шажком, начав его с самых бессмысленных начал. Лишь став взрослым, можно стяжать понимание смысла собственного существования в мире, опираясь на обретенный опыт. Увы, слишком часто родители хотят, чтобы дети рассуждали так же, как они сами, упуская при этом из виду, что развитие самосознания и миропонимания, а также представлений о смысле жизни требует не меньше времени, чем развитие телесное и умственное.
Сегодня, как и в прежние времена, самой важной (и самой трудной!) задачей в воспитании ребенка остается помощь ему в обретении смысла жизни. Чтобы достичь этого, взрослея, необходимо многое пережить. Дитя, развиваясь, должно понемногу учиться все лучше и лучше понимать себя; осваивая это умение, оно обретает способность понимать других и в конечном счете общаться с ними так, что общение приносит удовлетворение обеим сторонам, будучи исполнено смысла.
Что нужно, чтобы достичь глубинных смыслов? Преодолеть узкие рамки такого существования, когда все вращается вокруг тебя, и поверить, что ты внесешь в жизнь весомый вклад: если не теперь, то некогда, в будущем. Это чувство необходимо тому, кто хочет ощущать удовлетворение от того, кто он такой и что делает. Чтобы не оказаться игрушкой в руках судьбы, необходимо развивать внутренние ресурсы, дабы эмоции, воображение и ум поддерживали и обогащали друг друга. Испытывая положительные ощущения, мы обретаем силу для развития нашего ratio; лишь надежда на будущее может укрепить нас в невзгодах, с которыми каждый из нас неизбежно встречается на жизненном пути.
В педагогической и терапевтической работе с детьми, страдавшими тяжелыми нарушениями психики, моей главной задачей было возвратить смысл в их жизнь. В ходе этой работы я понял, что, если детей воспитывали так, что жизнь получала для них смысл, им не требовалась специальная помощь. Передо мной возникла проблема поисков того, какой опыт и какие переживания в жизни детей в наибольшей мере помогают развитию их способности обретения смысла жизни, дабы их жизнь как целое обогащалась смыслом. Если говорить об этой задаче, то нет ничего важнее вклада родителей и тех, кто заботится о ребенке. Следующая по значимости роль принадлежит культурному наследию, важно только преподносить его ребенку должным образом. Пока дети малы, лучше всего до них доносит соответствующую информацию художественное слово.
В этой связи значительная часть литературы, рассчитанной на развитие личности и сознания ребенка, вызывает у меня глубокое разочарование. Такое чтение не подпитывает ресурсы, более всего необходимые ребенку для совладания с внутренними проблемами (а справляться с ними ему непросто!). Буквари и книжки, по которым он учится читать в школе, рассчитаны на развитие необходимых навыков, тогда как смыслы вообще не интересуют их составителей. Остальная так называемая детская литература в подавляющем большинстве своем призвана развлекать или давать знания (или рассчитана и на то и на другое одновременно). Но смысла из них можно извлечь очень немного, настолько легковесно их содержание. Приобретение навыков, включая способность читать, обесценивается: человек овладевает ими, но ничего существенного в его жизнь это не привносит.
Все мы склонны оценивать то, что наша деятельность принесет нам в будущем, основываясь на том, что она дает нам сейчас. Но в отношении ребенка это особенно верно: он живет настоящим куда в большей мере, чем взрослый, и, хотя испытывает беспокойство относительно своего будущего, лишь смутно представляет себе, каким оно окажется и что от него потребуется. Взрослые обещают: «Научившись хорошо делать это, позднее ты обогатишь свою жизнь». Но если ребенок читает или слушает нечто бессодержательное, обещание начинает казаться ему пустым. И что хуже всего, детские книги обманывают ребенка в отношении того, что он может и должен получить из опыта чтения, ведь они не дают доступа к глубинным смыслам, важным для него на том этапе развития, на котором он сейчас находится.
Чтобы прочно завладеть вниманием ребенка, книга должна быть занимательной, пробуждать любопытство. Но если она призвана обогатить его жизнь, она должна подстегнуть его воображение, помочь ему развить ум и прояснить чувства, откликнуться на его тревоги и надежды, полностью отобразить его трудности и в то же время подсказать решения тех проблем, что его беспокоят. Одним словом, она должна затрагивать все аспекты его личности одновременно и при этом не только не допускать пренебрежения к читателю-«малышу», но и, напротив, со всей серьезностью отнестись к его затруднениям, одновременно поддерживая его веру в себя и в собственное будущее.
С этой точки зрения (не говоря уж о многих других) ничто не способно более обогатить ребенка и взрослого, нежели народные волшебные сказки; чтение их приносит наибольшее удовлетворение. Правда, стороннему наблюдателю может показаться, что волшебные сказки не слишком-то годятся для обучения тонкостям жизни в современном массовом обществе: они были созданы задолго до того, как оно сформировалось. Но что касается внутренних проблем, с которыми сталкивается человек, и того, как их правильно разрешить в любом обществе, из них можно узнать больше, нежели из любой другой книги, доступной ребенку. Поскольку ребенок постоянно подвергается воздействию общества, в котором живет, он непременно научится справляться с его требованиями при условии, если внутренние ресурсы позволят ему это.
Уже в силу того, что жизнь то и дело ставит ребенка в тупик, он нуждается в том, чтобы осознать самого себя в сложном мире, на вызовы которого ему необходимо научиться отвечать. Чтобы дитя справлялось с этим, ему следует помочь превратить хаос собственных переживаний в гармоничное смысловое целое. Требуется подсказать ему, как навести порядок в своем внутреннем мире, а затем, опираясь на это, и в жизни. Ему нужно – и с этим нельзя не согласиться, учитывая, какое время на дворе, – моральное воспитание, которое исподволь, незаметно представит ему преимущества морального поведения. И делать это нужно, привлекая не абстрактные этические понятия, но то, что будет для него осязаемо и в силу этого осмысленно. Дитя обретает такого рода смыслы, читая сказки. Это открытие современной психологии, как и многие другие, давно предугадали поэты. Шиллер писал:
И в сказках часто больший смысл таится,
Чем в истинах, которым учит жизнь[1].
В течение сотен (если не тысяч) лет сказки передавались из уст в уста, становились все совершеннее и в итоге стали выражать и явное, и скрытое содержание. Они адресованы всем уровням человеческой личности; манера, в которой они обращаются к читателю, понятна как дошкольнику, так и искушенному взрослому. Прибегая к психоаналитической модели человеческого сознания, можно сказать, что сказки несут важное сообщение сознательному, предсознательному и бессознательному компонентам психического, какой бы уровень ни вышел на первый план для данного субъекта. В сказках речь идет о вечных проблемах, стоящих перед человечеством, в том числе и тех, которые более всего занимают ребенка; в этом случае они более всего говорят его едва «проклюнувшемуся» «я», способствуют его развитию и вместе с тем облегчают напряжение, исходящее от предсознательного и бессознательного. Разворачиваясь, сказочные сюжеты помогают сознанию уловить напряжения, исходящие от «оно», найти для них воплощение, а также показать, каким образом так или иначе можно удовлетворить влечения, не противореча требованиям «я» и сверх-«я».
Но мой интерес к волшебным сказкам направлен не на то, чтобы провести «технический анализ» преимуществ, которые они дают. Возник он совершенно по иной причине: я спрашивал себя, почему (я могу судить, исходя из собственного опыта) дети – как нормальные, так и с особенностями развития, на каком бы уровне они ни находились, – любят народные волшебные сказки больше, чем какую бы то ни было еще детскую литературу.
Чем больше усилий я прилагал, чтобы понять, почему сказки так обогащают внутреннюю жизнь ребенка, тем больше я понимал, что они, если можно так выразиться, начинают там, где ребенок находится в данный момент в своем психологическом и эмоциональном развитии. Они воздействуют глубже, чем какие бы то ни было еще тексты для чтения, затрагивая самые глубины его существа. Они говорят о сильнейшем натиске изнутри, переживаемом ребенком, причем ребенок понимает, что происходит, на бессознательном уровне. Более того, не преуменьшая серьезности внутренних конфликтов, с которыми сопряжено взросление, они предлагают примеры того, как разрешить ту или иную трудность – на какое-то время или насовсем.
Коль скоро я получил грант от Фонда Спенсера и имею возможность уделить время изучению вклада, который психоанализ способен внести в воспитание и образование детей (и коль скоро чтение является существеннейшим инструментом образования вне зависимости от того, читает ли ребенок сам или ему читают другие), мне показалось уместным использовать эту возможность, дабы поглубже и поподробнее изучить, почему же народные волшебные сказки имеют столь большое значение для воспитания. Надеюсь, что должное понимание уникальных достоинств волшебных сказок побудит родителей и учителей поспособствовать тому, чтобы сказки вновь стали играть центральную роль в жизни ребенка, как то было в течение столетий.
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ И ТРУДНОСТИ БЫТИЯ
Взрослея, ребенок преодолевает многочисленные психологические трудности: нарциссические разочарования, эдиповы дилеммы, соперничество с братьями и сестрами. Он перестает зависеть от взрослых, приобретает чувства самости и самоценности, а также ощущение моральных обязательств. Чтобы все это могло произойти, ребенку нужно понимать, что происходит в его сознательном «я»; тем самым он получит возможность совладать с тем, что происходит в бессознательном. Достижение этого понимания и, соответственно, обретение способности к совладанию происходит отнюдь не путем рационального усвоения того, какова природа его бессознательного и что оно в себе таит.
Знакомство с ним происходит, когда ребенок предается мечтам в ответ на импульсы, исходящие от него. Его занимают подходящие элементы сказочных сюжетов: он размышляет о них, представляет в своем воображении, крутит так и этак. Тем самым дитя облекает бессознательное содержание в сознательные фантазии, что, в свою очередь, помогает ему с этим содержанием справиться. Именно здесь волшебные сказки оказывают ребенку неоценимую пользу: они обеспечивают новые измерения для его воображения, которые ему никогда не удалось бы по-настоящему открыть для себя в одиночку. Что еще важнее, форма и композиция волшебных сказок подсказывают ребенку образы, с помощью которых он может структурировать свои фантазии и направить свою жизнь более верным путем.
Бессознательное существенно влияет на поведение как детей, так и взрослых. Когда оно подавляется и на проникновение его содержания в сознание накладывается запрет, то в конечном счете сознательное оказывается частично захвачено тем, что порождают эти элементы бессознательного. Возможно и другое: ему приходится столь жестко – можно сказать, маниакально – контролировать их, что его личность оказывается буквально искалечена. Но если какая-то часть бессознательного материала проникает в сознание и перерабатывается воображением, то его способность нанести вред – самому человеку или его окружению – в значительной степени уменьшается, а некоторые его силы можно направить на позитивные цели. Однако подавляющее большинство родителей убеждено, что ребенка следует отвлекать от не имеющих воплощения и названия тревог и хаотичных фантазий, где царит зло и даже насилие, – словом, того, что его более всего беспокоит. Многие отцы и матери полагают, что ребенок должен иметь дело только с осознаваемой реальностью и приятными образами, связанными с исполнением желаний, то есть должен быть знаком лишь со светлой стороной жизни. Но такая жесткая диета приводит к тому, что сознание питается лишь частью необходимой пищи. В действительности жизнь имеет не только светлую сторону.
Очень многие родители желают предохранить ребенка от понимания того, что значительная часть неприятностей в жизни проистекает от собственной нашей природы, – иными словами, от присущей всем и каждому склонности к агрессивным, асоциальным, эгоистичным поступкам под воздействием гнева и тревоги. Напротив, мы хотим, чтобы наши дети считали, что все люди хороши по природе своей. Но дети знают, что они не всегда бывают хорошими, и зачастую, даже будучи хорошими, предпочли бы иное. Это противоречит тому, что им говорят родители, и ребенок из-за этого выглядит чудовищем в собственных глазах.
Господствующая ныне культура настаивает на ложном утверждении (в особенности когда дело касается детей), что у человека нет темных сторон, и проповедует мелиоризм: «Ситуацию можно улучшить, если только захотеть». Согласно распространенному мнению, сам психоанализ был создан, дабы облегчить человеческую жизнь. Однако Фрейд имел в виду вовсе не это. Жизнь по сути своей проблематична, и психоанализ был создан, чтобы помочь человеку принять этот факт, а не сломаться под тяжестью его осознания и не удариться в бегство. Согласно «рецепту» основателя психоанализа, человек способен преуспеть в мучительных поисках смысла своего существования только в том случае, если он призовет себе на помощь всю свою смелость в борьбе с противником, чьи шансы на победу кажутся абсолютными.
Именно эту мысль сказка доводит до ребенка бесчисленными способами: человек неизбежно сталкивается в жизни с серьезнейшими трудностями, это неотъемлемая часть его существования. Но тот, кто не уклоняется от борьбы, а с твердостью противостоит неожиданным ударам судьбы, зачастую несправедливой, преодолеет все препятствия и в конце концов одержит победу.
Современные тексты для маленьких детей по большей части не затрагивают этих проблем нашего существования, хотя они имеют принципиальное значение для каждого из нас. В особенности ребенок нуждается в намеках – в символической форме – по поводу того, как справиться с этими проблемами и благополучно достичь зрелости. В «безопасных» текстах не упоминаются ни смерть, ни старение, кладущие предел нашему существованию, ни желание бессмертия. Напротив, волшебные сказки ставят ребенка лицом к лицу с основными проблемами человеческой жизни.
К примеру, многие из них начинаются с того, что умирают отец или мать; смерть родителей порождает самые мучительные проблемы, как и в реальности (вне зависимости от того, сама смерть или страх ее имеется в виду). В других сказках говорится, как отец, старея, решает, что пришла пора уступить место новому поколению. Но прежде чем это произойдет, наследник должен проявить свои достоинства и способности. Сказка «Три перышка» из сборника братьев Гримм начинается так: «Жил-был однажды король, было у него три сына… Вот король состарился уже и стал слаб; видит, что скоро ему помирать придется, но никак он не мог решить, кому же из своих сыновей царство свое передать в наследство»[2]. Чтобы принять решение, король дает всем трем сыновьям трудное задание; тот, кто справится с ним лучше всего, «станет королем после моей смерти», говорит отец.
Экзистенциальные проблемы в сказках формулируются кратко и заостренно – такова их характерная особенность. Это дает ребенку возможность подойти к проблеме вплотную, тогда как более сложный сюжет мог бы сбить его с толку. Сказка упрощает любую ситуацию. Образы в ней четко очерчены; детали имеют принципиальное значение, в противном же случае они опускаются. Все герои скорее типичны, нежели индивидуальны.
Зло вездесуще, так же как и добродетель (что не характерно для многих современных детских книг). Практически в любой волшебной сказке добро и зло воплощены в конкретных образах и их поступках, ведь добро и зло пронизывают нашу жизнь, а склонность к тому и другому присущи каждому. Именно эта двойственность ставит перед человеком проблемы из области морали, и разрешение их не дается без борьбы.
Зло, представленное фигурами могучего великана, или дракона, или могущественной волшебницы (например, злокозненной королевы из сказки «Белоснежка»), не лишено привлекательности и зачастую на время одерживает верх. Во многих сказках узурпатору – как, например, злым сестрам в «Золушке» – удается на какой-то срок занять место, что по праву принадлежит герою. Однако опыт морального воспитания, который приобретает читатель, погружаясь в мир сказки, определяется не тем, что в конце злодей несет наказание (хотя и это важно). Как и в жизни, в сказках наказание или связанный с ним страх лишь отчасти удерживают преступника. Убеждение в том, что преступление себя не оправдывает, действует куда эффективнее, и именно здесь кроется причина того, что в сказках злой персонаж всегда остается в проигрыше. Ребенка формирует с точки зрения морали не то, что добродетель в итоге побеждает, но то, что он в высшей степени симпатизирует герою и идентифицирует с ним себя, оказавшись в той или иной трудной ситуации. Дитя воображает, будто разделяет с персонажем горести и торжествует победы. Подобное отождествление осуществляется целиком и полностью по инициативе ребенка; конфликты, в которые вступает герой, и происходящая в его сердце борьба оставляют отпечаток в душе маленького слушателя.
Сказочным героям не свойственна амбивалентность: нельзя сказать, что они хороши и плохи одновременно, как то свойственно нам, реальным людям. Но поскольку сознанию ребенка свойственна контрастность, она преобладает и в сказках. Человек хорош или дурен, третьего не дано. Один из братьев глуп – другой умен. Одна из сестер добрая и работящая – другая злая и ленивая. Кто-то красив – остальные уродливы. Один из родителей хорош целиком и полностью – второй зол. В сказках, в отличие от назидательных историй, противоположные характеры изображаются не для того, чтобы указать, какое поведение является правильным. (Среди сказок есть и лишенные морального начала, где вовсе не играет роли, добр персонаж или зол, красив или уродлив.) Благодаря тому что ребенок сталкивается с полярными характерами, он с легкостью улавливает разницу между ними; если бы образы оказались более приближены к жизни и характеры отличались сложностями, свойственными реальным людям, ему не удалось бы сделать этого с такой легкостью. С неоднозначностью нужно подождать, покуда личность не сформируется на основе позитивных идентификаций, хотя бы в первом приближении. Тогда у ребенка появится основа для понимания того, что все люди разные и что в силу этой причины человеку надо выбирать, кем он хочет стать. Черно-белое видение, присущее волшебным сказкам, облегчает принятие этого решения, важность которого трудно переоценить, ведь от него зависит все дальнейшее развитие личности.
Более того, предпочтения ребенка оказываются связаны не столько с представлениями о том, что правильно, а что нет, сколько с тем, кто вызывает его симпатию, а кто антипатию. Положительный персонаж в волшебных сказках весь как на ладони. Чем проще он изображается, тем проще ребенку отождествить себя с ним и отвергнуть отрицательного персонажа. Причиной идентификации с добрым героем становится не его доброта; дело скорее в том, что обстоятельства, в которых тот оказывается, и его переживания вызывают у ребенка глубокое сочувствие. Ребенок не задается вопросом: «Хочу ли я быть добрым?» – он спрашивает себя: «На кого я хочу быть похожим?» Решение принимается, когда дитя полностью отождествляет себя с определенным персонажем. Если этот сказочный персонаж – воплощение добра, то ребенок решает, что тоже хочет быть хорошим. В тех сказках, где мораль отсутствует, нет и поляризации или сопоставления добрых и злых героев; это связано с особой присущей им целью. Подобные сказки или характерные персонажи (вспомним Кота в сапогах, который жульничает, чтобы помочь хозяину добиться успеха, и Джека, похитившего сокровище у великана) помогают развитию характера, не побуждая ребенка выбирать между добром и злом, но давая ему надежду на то, что даже самый тихий и кроткий может преуспеть в жизни. В конце концов, каков смысл выбора в пользу добра, если человек считает себя таким ничтожеством, что, по его мнению, в жизни ему не удастся достичь ничего? Важнее всего в этих сказках не мораль, но скорее уверенность в себе, которой они помогают достичь читателю. Не менее важна экзистенциальная проблема отношения человека к жизни: считает ли он, что способен справиться с преподносимыми ею трудностями, или ожидает поражения? Глубокие внутренние конфликты, коренящиеся в наших влечениях, и неистовые эмоции – запретная тема для многих современных произведений для детей, и ребенок, пытающийся совладать с ними, не получает в результате чтения никакой помощи. Но ребенку знакомо отчаяние, вызванное одиночеством и изоляцией, и он часто ощущает страх смерти. Чаще всего он не способен выразить эти переживания в словах или же ему удается сделать это лишь косвенно: он говорит о том, что боится темноты, какого-то животного, испытывает тревогу в отношении собственного тела. Узнав, что ребенок испытывает подобные эмоции, родитель ощущает беспокойство, поэтому он склонен не замечать их или преуменьшать вследствие собственной тревоги. Все это, как они надеются, поможет «залатать дыры», и страхи ребенка уйдут. Напротив, сказка принимает эти экзистенциальные тревоги и проблемы всерьез, причем они оказываются затронуты самым непосредственным образом: в сказках говорится о потребности быть любимым и боязни, что другой тебя не оценит; любви к жизни и страхе смерти.
Кроме того, сказки предлагают решения проблем, выраженные на доступном ребенку уровне. Например, они то и дело заканчиваются так: «И если они не умерли, то и теперь живут» – и тем самым затрагивают проблему желания вечной жизни. Другая концовка: «И с тех пор они жили счастливо», разумеется, не вводит ребенка в заблуждение, будто вечная жизнь возможна. Но в ней обозначено единственное, что способно утихомирить боль, порожденную ощущением краткости нашей жизни, – приносящая подлинное удовлетворение связь одного человека с другим. Тот, кто сделал это, учит нас сказка, оградил себя от всех опасностей существования, грозящих нам в сфере чувств, и сформировал наиболее стабильные отношения из тех, что доступны человеку. Одно лишь это способно рассеять страх смерти. Кроме того, сказка гласит: тот, кто обрел подлинную, «взрослую» любовь, не нуждается в вечной жизни. На это намекает еще одна сказочная концовка: «И еще долго жили они в довольстве и счастье». Несведущий читатель увидит в ней пожелание, имеющее мало общего с реальностью, полностью упустив важное сообщение, которое она несет ребенку. Сказка сообщает ему, что, сформировав подлинные межличностные отношения, человек оказывается защищен от преследующей его тревоги, вызванной сепарацией (тревога эта – неотъемлемый атрибут начала многих сказок, но в финале соответствующая ситуация всегда находит свое разрешение). Более того, сказка учит нас, что все заканчивается именно так не потому, что дитя остается навек связано с матерью, хотя именно этого хочет и в это верит ребенок. Если мы попытаемся избежать тревоги, связанной с сепарацией и смертью, «вцепившись» в наших родителей, мы дождемся лишь того, что нас грубо оттолкнут, как Гензеля и Гретель.
Лишь выйдя в мир, сказочный герой (ребенок) сможет найти себя там. И сделав это, он также обретет другого, вместе с которым сможет жить счастливо до конца дней своих, то есть не будучи отныне подвержен сепарационной тревоге. Сказка глядит в будущее и подводит ребенка к тому, чтобы, отказавшись от инфантильных желаний, порожденных зависимостью от старших, он достиг более удовлетворительного независимого существования. Современные дети растут вне защиты, которую прежде обеспечивала большая семья «с чады и домочадцы» или хорошо интегрированная община. По этой причине сегодня еще важнее, чем в те времена, когда появилась сказка, познакомить современных детей с образами героев, вынужденных выйти в мир в одиночку: те, изначально ничего не зная о том, как устроен мир, все же находят в нем убежища, ведомые по верному пути глубоким чутьем.
Некоторое время сказочный герой пребывает в изоляции (точно так же и дитя чувствует себя изолированным). Он получает поддержку, общаясь с теми объектами, что окружают нас, причем самыми простыми – деревьями, животными, природой; так же и ребенок чувствует себя связанным с ними в большей мере, нежели многие взрослые. Судьба этих героев убеждает его в том, что, подобно им, он может чувствовать себя отщепенцем и блуждать ощупью во тьме, но получит руководство на жизненном пути и помощь, если она потребуется ему. Сегодня – более, нежели прежде, – дитя нуждается в утешении и поддержке, и именно ее обеспечивает образ одиночки, который, вопреки своему одиночеству, обретает осмысленные отношения с окружающим миром, способные вознаградить его.
СКАЗКА: УНИКАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА
Развлекая ребенка, сказка в то же время просвещает его относительно того, кто он и что он, и способствует развитию его личности. Она привносит в его жизнь такое множество разноплановых смыслов и столь различными и многочисленными способами обогащает ее, что никакой книги не хватит, чтобы воздать ей должное, – столь разнообразен вклад сказки в жизнь детей. В нашей книге мы пытаемся показать, каким образом истории о волшебстве в образной форме представляют, из чего складывается процесс нормального развития. Также мы пишем о том, как сказка побуждает ребенка включиться в этот процесс, показывая его в привлекательном для маленького читателя виде. Взросление начинается с сопротивления родителям и боязни роста; в завершение же его юноша или девушка находят себя в подлинном смысле этих слов, достигая психологической независимости и моральной зрелости. Они приобретают способность положительно относиться к противоположному полу, и его представители более не кажутся им грозными демонами.
Одним словом, книга эта объясняет, почему влияние сказок на то, что можно назвать внутренним ростом ребенка, носит столь важный и столь позитивный характер.
Наслаждение, переживаемое нами, когда мы позволяем себе ощутить рождающийся в душе отклик на сказку, очарование, которое мы испытываем, вызвано не ее психологическим содержанием (хотя отчасти и им тоже) – оно связано с ее литературными достоинствами, достоинствами самой сказки как произведения искусства. В противном случае она не оказывала бы психологического воздействия на ребенка.
Уникальность сказки состоит не только в особенностях ее литературной формы, но и в том, что этот тип произведения доступен ребенку, как никакой другой. Каждый понимает сказку (и то же справедливо относительно других подлинных произведений искусства) по-своему; более того, понимание не будет совпадать у одного и того же человека в разные моменты его жизни. Из одной и той же сказки ребенок будет вычитывать разные смыслы в зависимости от интересов и потребностей, испытываемых им в данный момент. При случае он вернется к уже прочитанному тексту, когда окажется готов расширить прежние смыслы или заменить их новыми.
Как и любое другое подлинное произведение искусства, сказка многогранна: в ней есть немало того, что достойно внимания исследователя, помимо психологического значения и воздействия, которое она оказывает и которому посвящена эта книга. Так, в сказках находит выражение наше культурное наследие, и именно в форме сказки ребенок воспринимает сообщения, исходящие от него[3]. Также можно посвятить целую книгу теме, которую мы ниже лишь затронем, – уникальному вкладу, который способны внести – и вносят – сказки в образование ребенка с точки зрения морали.
Фольклористы подходят к сказке в соответствии с задачами своей научной дисциплины, иначе видят ее лингвисты и литературные критики. К примеру, любопытно, что, согласно некоторым суждениям, волк пожирает Красную Шапочку подобно тому, как ночь поглощает день, луна закрывает собой солнце во время затмения, зима сменяет собой теплое время года, божество поедает принесенную ему жертву и так далее. Сами по себе подобные суждения интересны, но, очевидно, не принесут особенной пользы родителю или наставнику: их интересует, что могут значить сказки для детей. А жизненный обиход ребенка, в конце концов, весьма далек от представлений о мире, в центре которых оказываются природные процессы или небесные божества.
Сказки также насыщены религиозными мотивами, многие библейские сюжеты близки сказочным. Сознательные и бессознательные ассоциации, вызываемые сказками у того или иного читателя, зависят от его общих представлений и от того, что его заботит. Соответственно, люди религиозные обнаружат в сказках много такого, что будет важно для них, но останется не упомянуто в этой книге.
Большая часть сказок сложилась в те времена, когда религия составляла важнейшую часть жизни; по этой причине так или иначе, прямо или косвенно сказки связаны с религиозной тематикой. Истории из цикла «Тысяча и одна ночь» то и дело отсылают читателя к исламу. Религиозный характер имеет и содержание множества западных сказок, но большая часть их ныне не в чести и остается неизвестна широкой публике. Причина кроется в том, что эта тематика не вызывает почти ни у кого из читателей ни общих, ни индивидуальных ассоциаций. К примеру, одна из лучших сказок сборника братьев Гримм «Приемыш Богоматери»[4] в наши дни почти забыта. Начинается она в точности как «Гензель и Гретель»: «На опушке большого леса жил дровосек со своей женой». Как и в первой сказке, супруги до того бедны, что не могут более ни прокормиться сами, ни прокормить трехлетнюю дочь. Их бедствия тронули Деву Марию; она является им, предлагает взять на себя заботу о девочке и забирает ее на небеса. Девочке хорошо живется на небе, покуда ей не исполняется четырнадцать. В это время (здесь приходит на ум совершенно другая сказка – «Синяя Борода») Дева Мария вручает ей ключи к тринадцати дверям и разрешает отпирать все, кроме одной. Девочка не в силах удержаться от искушения; поддавшись ему, она отказывается сознаться в этом и лжет. За это она лишается дара речи и должна вернуться на землю, где претерпевает несколько тяжких испытаний; ей грозит смерть на костре. В этот миг, когда единственное ее желание – покаяться в своем прегрешении, способность говорить возвращается к ней, и Пресвятая Дева дарует ей счастье на всю оставшуюся жизнь. Сказка учит, что дар речи, используемый во зло, ведет нас лишь к гибели. Если мы лживы, лучше лишиться его, как то случилось с героиней сказки. Но слово правды, произнесенное в покаянии, и исповедание грехов возрождают нас.
Не только эта, но и множество других сказок братьев Гримм вызывают ассоциации с религиозными сюжетами. Иногда эти ассоциации ощущаются с самого начала рассказа. В сказке «Кованный заново человек» мы читаем: «В те времена, когда Господь странствовал еще по земле, зашел он раз под вечер вместе со святым Петром к одному кузнецу, и тот охотно пустил их к себе переночевать»[5]. В другой сказке под названием «Бедняк и богач» Бог, подобно другим сказочным героям, утомляется от ходьбы. В начале этой истории говорится: «В стародавние времена, когда Господь Бог ходил еще по земле, случилось, что однажды под вечер он устал, его застала ночь, и негде было ему переночевать. А стояли по дороге два дома, один против другого…»[6] Но хотя религиозные аспекты волшебных историй важны и захватывающе интересны, все же они остаются вне нашего поля зрения и не рассматриваются в этой книге, ибо наша цель иная.
Даже принимая во внимание сравнительно узкую тему нашей книги (мы пытаемся рассуждать о значении сказок для детей, поскольку они помогают детям справиться с психологическими проблемами взросления и интеграции личности), мы должны ввести несколько существенных, но необходимых ограничений.
Первое связано с тем, что в наши дни лишь незначительное число сказок остается широко известным. Большинство утверждений, сделанных в этой книге, можно было бы куда живее проиллюстрировать, цитируя малоизвестные волшебные истории. Но поскольку эти сказки, некогда знакомые едва ли не всем, в наши дни утратили популярность, их пришлось бы перепечатать в этом томе, и книга увеличилась бы до таких размеров, что ею стало бы неудобно пользоваться. Поэтому я принял решение сосредоточиться на нескольких сказках, по-прежнему популярных, с целью показать их скрытые смыслы и проанализировать, как они соотносятся с проблемами взрослеющего ребенка, нашим представлением о самих себе и о мире. Что же касается второй части книги, то, вместо того чтобы пытаться достичь невозможного – исчерпывающей полноты, я обращаюсь к нескольким всеми любимым вещам, анализируя их смысл; также меня интересует, почему читатели получают от них удовольствие.
Будь эта книга посвящена одной-двум сказкам, это позволило бы сделать анализ более многогранным. Впрочем, даже в этом случае провести исчерпывающее исследование не удалось бы: какую сказку ни возьми, ее смысловая структура оказывается слишком сложна для этого. То, какая история наиболее важна для данного конкретного ребенка, целиком и полностью зависит от того, на каком этапе психологического развития он сейчас находится и какие проблемы в данный момент являются для него наиболее насущными. При работе над этой книгой мне казалось резонным сосредоточиться на основном значении сказки. Это породило недостаток – пренебрежение к другим аспектам, которые могут иметь большее значение для того или иного конкретного ребенка, пытающегося разрешить в данный момент те или иные конкретные проблемы. Таково еще необходимое ограничение этой книги.
К примеру, в разборе сказки «Гензель и Гретель» мы делаем акцент на страстном желании ребенка во что бы то ни стало остаться с родителями, несмотря на то что ему пришло время в одиночку выйти в мир. Также мы останавливаемся на необходимости преодолеть примитивные оральные импульсы (вспомним безрассудное поведение детей в пряничном домике). Представляется, что эта сказка – чрезвычайно полезное чтение для ребенка, готового сделать первые шаги в мире: она дает воплощение его тревогам и помогает ему, охваченному страхами, обрести уверенность в том, что он справится с ними. Ведь даже самый сильный из них – страх быть съеденным – не подтверждается: в конце концов дети побеждают, а самый опасный враг – ведьма – терпит полное поражение. Итак, мы убедительно доказали, что эта сказка более всего полезна и интересна детям, находящимся в том возрасте, когда волшебные истории начинают оказывать на них воздействие, то есть в возрасте четырех-пяти лет.
Но проявления тревоги, связанной с сепарацией (то есть боязни остаться в одиночестве), и страх умереть с голоду, с которым связана и прожорливость, не ограничиваются конкретным периодом развития. Подобные страхи присутствуют в бессознательном в течение всей жизни, так что эта сказка может воодушевить детей значительно более старшего возраста и стать осмысленным чтением и для них. Заметим: может случиться, что тем, кто постарше, куда труднее осознать и принять страх разлуки с родителями или такой оральный импульс, как жадность. Здесь кроются еще более веские причины пользы сказки, которая говорит с бессознательным ребенка, давая воплощение его бессознательным тревогам и даря ему облегчение, пусть он не и осознает, почему это происходит.
Та же сказка может обеспечить столь необходимую поддержку и направить на верный путь детей старшего возраста благодаря иным своим аспектам. Одна девочка лет тринадцати была в восторге от «Гензеля и Гретель» и фантазировала на темы этой сказки, читая и перечитывая ее. У нее был брат, первенство которого она признавала, будучи ребенком. В каком-то смысле он указал ей дорогу, подобно Гензелю (вспомним, как тот разбросал камешки, по которым вместе с сестрой нашел обратный путь к дому). Став старше, девочка по-прежнему полагалась на брата, и, так как в сказке имеется соответствующий мотив, чтение ободряло ее. Но вместе с тем превосходство брата стало ей не по душе. Поскольку в то время она не сознавала этого, ее переживания, вызванные борьбой за независимость, оказались связаны с фигурой Гензеля. Обращаясь к бессознательному девочки, история подразумевала, что подчинение брату будет означать для нее движение назад, а не вперед. Важный для нее смысл также обнаружился в том, что, хотя в начале истории лидером был Гензель, в конце «свободы и независимости» для обоих детей добилась именно Гретель, ведь именно она одолела волшебницу. В зрелые годы эта женщина поняла, что сказка немало помогла ей отбросить зависимость от брата. Благодаря чтению она убедилась в том, что влияние на нее брата в раннем возрасте и превосходство, которого она сумела добиться позднее, – это разные вещи. Таким образом, история, важная для девочки в раннем детстве по одним причинам, продолжала сохранять для нее свое значение по причинам совершенно иного рода, когда она достигла подросткового возраста.
Центральный мотив «Белоснежки» состоит в том, что взрослеющая девушка отражает разнообразные нападения злой мачехи, которая из зависти отказывает ей в независимом существовании (символически это представлено в виде попыток погубить падчерицу). Однако сокровенное значение этой сказки для одной пятилетней девочки оказалось весьма далеким от проблем, связанных с периодом пубертата. Мать девочки была холодной и далекой – настолько, что ребенок чувствовал себя потерянным. Но сказка уговаривала ее не отчаиваться: преданная мачехой, Белоснежка получает спасение от мужских фигур (сперва от гномов, а затем от принца). И девочка также не впала в отчаяние из-за того, что мать покинула ее, – она поверила, что спасение придет от лиц мужского пола. Убедившись, что сказка направила ее на верный путь, она стала искать общения с отцом, и тот охотно откликнулся. Счастливый конец сказки помог девочке обрести счастье, найдя выход из тупика, в котором она оказалась из-за недостатка интереса к ней со стороны матери. Итак, сказка может иметь для пятилетнего ребенка такое же большое значение, как и для подростка тринадцати лет, хотя личностные смыслы, извлекаемые обоими из одного и того же текста, могут существенно различаться между собой.
В сказке «Рапунцель» мы узнаем, что волшебница заперла Рапунцель в башне, когда той исполнилось двенадцать. Как это похоже на отношения взрослеющей девушки и завистливой матери, которая пытается помешать дочке обрести независимость! (Эта типичная для подросткового возраста проблема счастливо разрешается, когда Рапунцель соединяется со своим принцем.) Однако некий пятилетний мальчик вычитал из этой сказки совершенно другой, важный для него смысл. Заботившаяся о нем бабушка, с которой он находился едва ли не постоянно (мать работала целыми днями, а отца в семье не было), серьезно заболела и должна была лечь в клинику. Узнав об этом, он попросил, чтобы ему прочли историю Рапунцель. В этот критический момент для него оказались важны две составляющие сказки.
Во-первых, фигура, замещающая мать, защитила ребенка от всех опасностей, и этот образ пришелся ему по душе. Итак, то, что обычно считается проявлением негативного отношения и эгоизма, в данных конкретных обстоятельствах оказалось исполнено самого что ни на есть позитивного смысла.
Но еще большее значение для мальчика получил другой центральный мотив сказки: Рапунцель обнаруживает средство избежать своей участи. Им оказывается часть ее физического существа – это длинные косы, по которым принц поднимается в ее комнату в башне. Узнав, что собственное тело может оказаться для кого-то средством спасения, мальчик уверился, что в случае необходимости его тело также послужит ему средством обеспечения безопасности.
Перед нами свидетельство того, что волшебная сказка может дать маленькому мальчику очень многое, даже если в ней рассказывается о девушке-подростке, ведь сказка описывает самые существенные проблемы, стоящие перед человеком, в такой форме, которая необыкновенно интенсивно будит воображение.
Эти примеры помогут уравновесить впечатление от моей сосредоточенности на центральных мотивах сказки и показать, что волшебные истории имеют огромное психологическое значение для детей всех возрастов вне зависимости от пола и возраста главного персонажа. Глубокие личностные смыслы оказываются доступны читателям сказок потому, что те способствуют изменениям в идентификации по мере того, как ребенок справляется с проблемами, побеждая их одну за другой. Благодаря прежней идентификации девочки с той Гретель, которая с готовностью подчинялась Гензелю, позднейшая ее идентификация с той Гретель, которая одолела ведьму, помогает ей взрослеть и обретать независимость с большей радостью и удовлетворением и меньшими опасностями и трудностями. Первая мысль маленького мальчика, ощутившего себя в безопасности благодаря образу укрытия – башни, в дальнейшем приводит его к счастливому пониманию: куда более надежную защиту даст ему его собственное тело, которое станет для него источником спасения.
Поскольку невозможно угадать, в каком возрасте для данного ребенка данная конкретная сказка окажется полезнее всего, мы не можем принять решение, какую из множества волшебных историй ему следует рассказывать в данный момент и почему. Лишь сам ребенок может определить это и дать нам понять. Насколько сильным окажется чувство, вызванное тем, что пробудит в нем сказка? (Речь идет как о сознательном, так и бессознательном отклике.) Разумеется, отец или мать начнут рассказывать или читать ребенку ту историю, которая нравилась им самим, когда они были детьми, или нравится сейчас. Если сказка с первых строк не заинтересовала ребенка, это означает, что ее мотивы или темы не вызвали у него осмысленного отклика в данный период его жизни. Лучше на следующий вечер рассказать ему другую сказку. Вскоре он даст понять, что тот или иной текст важен для него: он сразу же выскажется или станет просить рассказывать ему эту сказку снова и снова. Если все пойдет как надо, воодушевление, вызванное этой сказкой, передастся и родителю, и она сделается важна и для него – хотя бы потому, что она так много значит для ребенка (если не найдется других причин). Наконец настанет время, когда ребенок получит от сказки все, что мог, или же проблемы, породившие его отклик на нее, сменятся другими, которые находят лучшее выражение в другой сказке. Тогда он, возможно, на время потеряет интерес к той истории и начнет получать куда большее удовольствие от другой. Рассказывая ребенку сказки, лучше всего следовать его предпочтениям.
Даже если отец или мать догадаются, почему ребенок так сильно откликнулся именно на эту (или другую) сказку, догадку следует хранить в секрете. Наиболее важные переживания и реакции ребенка по большей части неосознанны. Им следует оставаться таковыми до той поры, пока маленький читатель не достигнет значительно более зрелого возраста и у него не разовьется способность к пониманию. Нам так и хочется объяснить другому его неосознанные мысли, вывести в сознательное то, что он стремится сохранить на предсознательном уровне, и в особенности это ощущается, когда мы имеем дело с ребенком. Для блага ребенка чрезвычайно важно, чтобы родитель разделял его чувства, наслаждаясь той же сказкой, что и он. Но не менее важно сознание того, что его мысли остаются неведомы родителю до тех пор, пока он сам не решится их высказать. Если родитель даст понять, что уже все знает, это удержит ребенка от того, чтобы даровать родителю самое ценное – поделиться тем, что до этого момента оставалось его частным делом и хранилось в секрете. И так как вдобавок родитель неизмеримо сильнее ребенка, его власть может показаться беспредельной, а превосходство, вследствие этого, разрушительным: ребенок сочтет, что родитель способен читать его тайные мысли и знать, что он, ребенок, чувствует в глубине души, еще до того, как он сам приблизился к их осознанию.
Более того, если родитель объяснит ребенку, почему сказка столь захватывающе действует на него, тем самым он уничтожит ее очарование, ведь оно в значительной мере связано с тем, что ребенок в точности не понимает, почему сказка так ему нравится. А утрата очарования влечет за собой утрату присущей сказке возможности поддержать ребенка в его собственной борьбе, помочь ему собственными силами справиться с той самой проблемой, что сделала эту сказку столь важной для него. Интерпретации взрослых, как бы ни были они правильны, лишают ребенка возможности ощутить, что он сам, раз за разом слушая сказку и раздумывая над ней, успешно совладал со сложной ситуацией. Мы растем, проживаем жизнь и обретаем смыслы, и залог нашей безопасности – в нашей собственной способности осознавать и разрешать личные проблемы самостоятельно, а не пользуясь чьими-то разъяснениями.
Если невротические симптомы лучше всего объяснять с рационалистических позиций, чтобы человек смог освободиться от них, то со сказочными мотивами дело обстоит иначе. Они вызывают ощущение чуда – оттого, что дитя чувствует, что его понимают и принимают со всеми его ощущениями, надеждами и тревогами, причем выносить все это наружу и исследовать при резком свете разума, пока что недоступного ему, не требуется. Сказки обогащают жизнь ребенка и привносят волшебство в его жизнь именно потому, что он толком не знает, как именно совершается чудо.
Эта книга написана в помощь взрослым – главным образом тем, у кого на попечении есть дети, – чтобы они более полно представляли себе всю важность таких сказок. Как я уже подчеркивал, помимо тех интерпретаций, что приводятся ниже в этой книге, возможно бесчисленное множество других, вполне уместных: волшебная сказка, как и любое другое подлинное произведение искусства, отличается таким богатством и глубиной содержания, что никакой логический анализ, даже самый тщательный, не сможет исчерпать его. Сказанное в этой книге следует рассматривать лишь как предположения автора, а также как иллюстративный материал. Если, заинтересовавшись, читатель решится самостоятельно заглянуть вглубь, он извлечет из этих историй еще больше разнообразных личностных смыслов; в свою очередь, истории приобретут еще большее значение для детей, которым он их расскажет.
Здесь, однако, следует специально ввести принципиальное ограничение. Подлинный смысл и влияние сказки можно оценить – а волшебство испытать – только в том случае, если вы имеете дело с оригинальным текстом. Описание характерных особенностей сказки дает столь же малое представление о ней, как перечисление событий – о стихотворении, которым оно посвящено. Но, с другой стороны, авторам книги вроде нашей только и остается, что описывать основные черты сказок (если уж мы не включаем в свои работы их тексты целиком).
Поскольку большинство сказок доступно в других изданиях, мы надеемся, что вместе с этой книгой вы будете читать и истории, о которых мы говорим. Лишь оригинальный текст – будь то «Красная Шапочка», «Золушка» или какая-то другая вещь – позволяет в полной мере ощутить всю поэзию сказки, а вместе с тем и понять, как она обогащает восприимчивого читателя.
1
Пер. Н. Славятинского. Шиллер Ф. Пикколомини // Шиллер Ф. Собр. соч. в 7 т. Т. 2. М., 1955. С. 394. Прим. пер.
2
Пер. Г. Петникова. Цит. по изд.: Гримм Я., Гримм В. Сказки. М., 1949. С. 293. Прим. пер.
3
Приведем пример. В сказке братьев Гримм «Семь воронов» семеро братьев исчезают и становятся воронами, когда появляется на свет их сестра. Чтобы крестить девочку, нужно было принести воды из колодца в кувшине, и пропажа кувшина становится тем роковым событием, с которого начинается история. Церемония крещения также служит провозвестием христианства. Можно увидеть в семерых братьях то, что должно исчезнуть, чтобы дать возможность появлению христианства. В этом случае они являют собой дохристианский, языческий мир, где семь планет символизировали семь древних небесных божеств. Тогда новорожденная девочка – это новая религия, развитие и распространение которой возможно только в том случае, если старые догмы не помешают этому. С приходом христианства братья, символизирующие язычество, низвергнуты во тьму. Но в обличье воронов они обитают в горе на краю света. Подразумевается, что они продолжают существовать в подземном, подсознательном мире. Они обретают человеческий облик лишь благодаря тому, что сестра жертвует ради них одним из пальцев. Здесь мы видим соответствие христианской идее: лишь тот, кто в случае нужды добровольно пожертвует рукой или глазом, мешающими ему достичь совершенства, войдет в царствие небесное. Новая религия, христианство, может дать свободу даже тем, кто ранее придерживался языческих верований.
4
Пер. П. Полевого. Цит. по изд.: Гримм Я., Гримм В. Полное собрание сказок и легенд в одном томе. М., 2015. С. 19–23. Прим. пер.
5
Пер. Г. Петникова. Цит. по изд.: Гримм Я., Гримм В. Сказки. М., 1949. С. 566. Прим. пер.
6
Пер. Г. Петникова. Цит. по изд.: Гримм Я., Гримм В. Сказки. М., 1949. С. 359. Прим. пер.