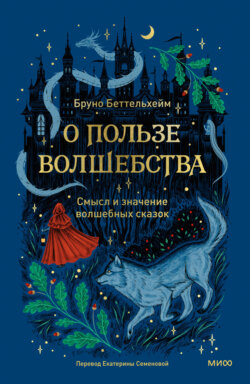Читать книгу О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок - Беттельхейм Бруно - Страница 4
Часть I. Полный карман чудес
«Рыбак и Джинн»
ОглавлениеСКАЗКА И БАСНЯ
Одна из сказок «Тысячи и одной ночи» – «Рыбак и джинн» – содержит почти исчерпывающее изложение такого распространенного мотива, как конфликт между великаном и обычным человеком[13]. Он встречается в тех или иных формах во всех культурах, поскольку по всей земле дети боятся взрослых и ропщут против их власти над ними. (На Западе наиболее известно воплощение этой темы в сказке братьев Гримм «Дух в бутылке».) Дети знают, что, если они отказываются исполнять требования взрослых, у них есть только один способ избежать их гнева – перехитрить их.
В сказке «Рыбак и джинн» говорится о том, как бедный рыбак четыре раза забрасывает в море свою сеть. В первый раз он вытаскивает мертвого осла, во второй – кувшин, полный песка и грязи. Третья попытка приносит еще меньше, чем предыдущие, – глиняные черепки и битое стекло. На четвертый раз рыбак вылавливает медный сосуд. Он открывает его. Оттуда вырывается громадное облако, из него появляется гигантский джинн. Он угрожает убить рыбака, несмотря на все его мольбы. Рыбака спасает его смекалка. Джинн чувствует себя уязвленным, когда рыбак выражает сомнение в том, что такое огромное создание могло поместиться в таком маленьком сосуде. Затем рыбак вынуждает джинна вернуться в сосуд, чтобы тот доказал это. Тут рыбак быстро затыкает сосуд пробкой, запечатывает его и швыряет назад в океан.
В других культурах тот же самый мотив может возникнуть в иных вариантах: злые персонажи принимают облик огромных свирепых зверей, угрожающих пожрать героя, который значительно уступает им во всем, кроме одного – хитрости. Герой начинает размышлять вслух о том, что такому могучему духу легко превратиться в огромное существо, но он, конечно же, не сможет принять облик маленького создания вроде мыши или птицы. Дух оказывается тщеславен, и это решает его судьбу. Желая показать, что для него нет ничего невозможного, злодей превращается в крохотное животное, которое оказывается легкой добычей героя[14].
История о рыбаке и джинне более богата намеками, нежели иные воплощения этого сказочного мотива, поскольку она содержит важные детали, зачастую отсутствующие в других вариантах. Одна из них – рассказ о том, как джинн дошел до того, что решил убить своего освободителя; другая – о том, что усилия, затраченные на три безуспешные попытки, вознаграждаются в результате четвертой. В соответствии с моралью взрослых, чем дольше длится заключение, тем больше должен быть благодарен узник своему спасителю. Однако джинн описывает дело иначе: «Сидя в запечатанной бутылке, первые сто лет я думал: “Кто бы ни освободил меня, я сделаю его первым богачом на земле”. Но сто лет миновало, и никто не явился освободить меня. И вот я вступил в следующее столетие со словами: “Кто бы ни освободил меня, тому я открою все клады мира”. Но все же никто не явился мне на помощь, и так прошло четыреста лет. Тогда я молвил: “Кто бы ни освободил меня, я исполню три его желания”. И все же никто не вызволил меня. И тогда я разгневался великим гневом и сказал себе: “Кто бы ни пришел освободить отныне, того я убью…”»
Перед нами точное описание того, что чувствует «покинутый» малыш. Поначалу он думает, как он будет счастлив, когда вернется мать, или (если его отправили в его комнату) как он будет рад выйти оттуда и как он вознаградит мать. Но время идет; он сердится все сильнее, воображая, как страшно отомстит тем, кто притесняет его. На самом деле дитя, вероятно, будет счастливо, когда его простят, но это не влияет на ход его мыслей: сначала оно собирается вознаградить, а затем наказать тех, кто причиняет ему неприятности. Итак, перемена в мыслях джинна сообщает сказке, как ее понимает ребенок, психологическую правду.
Приведу в пример подобные изменения чувств трехлетнего мальчика, чьи родители уехали за границу на несколько недель. До их отъезда ребенок отлично разговаривал; он продолжал делать это, общаясь с женщиной, взявшей на себя заботу о нем, и с другими людьми. Но когда родители вернулись, он перестал говорить и не произнес ни слова в течение двух недель. Из того, что он сообщил няне, стало понятно, что в течение нескольких дней, когда родители только уехали, мальчик предвкушал встречу с ними. К концу недели, однако, он начал говорить о том, как он зол на них за то, что они его оставили, и как отомстит им, когда они приедут. Прошла еще неделя, он перестал упоминать родителей; когда же кто-то заговаривал о них, его охватывала безудержная ярость. Когда отец и мать наконец вернулись, он молча отвернулся от них. Несмотря на попытки сближения, мальчик продолжал упорствовать в своем неприятии. Родители с пониманием и сочувствием отнеслись к этой ситуации, но понадобилось несколько недель, чтобы ребенок стал прежним. Несомненно, с течением времени гнев мальчика усиливался. Наконец он захватил его с такой силой, что ребенок испугался: если он даст себе волю, то либо расправится с родителями, либо погибнет в результате наказания. Отказ говорить представлял собой психологическую защиту: таким образом мальчик оберегал и себя, и родителей от последствий своего ужасного гнева.
Невозможно узнать, содержатся ли в древнейшем варианте «Рыбака и джинна» высказывания насчет «закупоренных» чувств. Но образ «запертого в бутылке» был уместен тогда не менее, чем теперь. В той или иной форме любой ребенок испытывает чувства, напоминающие чувства того трехлетнего мальчика, хотя они приобретают не такую резкую форму и не сопровождаются столь явной реакцией, как у него. Сам ребенок не понимает, что с ним происходит: ему понятно лишь то, что он должен действовать именно так. Попытки помочь такому ребенку понять случившееся умом не затронут его. Мало того, он почувствует, что потерпел поражение, поскольку рациональный подход ему еще не доступен.
Если вы расскажете ребенку, что малыш так разозлился на родителей, что не разговаривал с ними две недели, в ответ он воскликнет: «Это глупо!» Если вы попытаетесь объяснить, почему он молчал две недели, ребенок, который слушает вас, еще сильнее ощутит, что это глупый поступок, – не только потому, что эти действия, на его взгляд, нелепы, но и потому, что объяснение, с его точки зрения, лишено смысла.
Ребенок не способен осознать, что его гнев может лишить его дара речи или что у него может возникнуть желание расправиться с теми, от кого зависит его существование. Понять это значило бы признать факт, что его эмоции могут захлестнуть его с такой силой, что он утратит над ними власть. Нечего и говорить о том, какой страх способна вызвать такая мысль. Представление о том, что внутри нас, быть может, таятся силы, неподвластные нам, слишком пугает, чтобы казаться забавным, и это относится не только к ребенку[15].
Ребенок не понимает – он действует, и это утверждение тем справедливее, чем сильнее его чувства. Какие бы объяснения он ни повторял вслед за нами, люди, с его точки зрения, плачут не потому, что грустят, – они просто плачут. Удары, разрушения, молчание не связаны с гневом, который испытывают люди, – они просто наносят удары или молчат. Ребенок может усвоить, что взрослые смягчатся, если он даст объяснение своему поступку: «Я сделал это потому, что разозлился». Но в любом случае он не ощущает гнев как гнев, для него это лишь побуждение нанести удар, сломать что-либо или замолчать. Лишь в пубертате немедленное действие (или желание действовать) в ответ на собственные эмоции сменяется настоящим осознанием того, что эти эмоции собой представляют.
Бессознательные процессы могут стать яснее ребенку лишь благодаря образам, которые непосредственно «говорят» с бессознательным, и именно это делают образы волшебных сказок. Ребенок не думает: «Когда мама вернется, я буду счастлив». Он думает: «Я дам ей что-нибудь». Точно так же и джинн говорит себе: «Любого, кто освободит меня, я сделаю богачом». Ребенок не думает: «Я так зол, что могу расправиться с таким-то». Он думает: «Когда я его увижу, я с ним расправлюсь». Так и джинн говорит: «Я убью всякого, кто освободит меня». Раздумывать о том, что человек на самом деле говорит такие вещи или поступает подобным образом, невозможно: сама мысль вызывает слишком большой страх. Но, зная, что джинн – существо вымышленное, ребенок вполне может позволить себе поразмыслить о том, что же заставляет персонажа так поступить, и не проецирует эти мысли на себя, что называется, в обязательном порядке.
По мере того как ребенок раздумывает над сказкой (если он этого не делает, воздействие сказки на него оказывается куда менее значительным), он медленно усваивает состояние джинна, обманутого в своих ожиданиях и находящегося в заточении. Таким образом ребенок делает важный шаг к знакомству с собственными – аналогичными – реакциями. Поскольку сведения об этих формах поведения ребенок получает из сказки, повествующей о вымышленной стране, он может думать то одно («Верно, вот как люди поступают, вот как они реагируют»), то другое («Это все неправда, это только сказка») в зависимости от того, насколько он готов признать, что эти процессы происходят в нем самом.
И самое важное: поскольку сказка обещает счастливый конец, ребенку не нужно бояться, что ее содержание спровоцирует открытые проявления бессознательного. Он знает: что бы он ни выяснил, «он будет жить долго и счастливо».
Фантастические преувеличения сказки, такие как пребывание в бутылке в течение нескольких сотен лет, делают реакции ребенка правдоподобными и приемлемыми. Сходный отклик на ситуации, приближенные к реальным, – например, на отсутствие отца или матери, – выглядел бы неадекватным. Но для ребенка отсутствие родителя кажется вечным, и правдоподобное замечание матери: «Меня не было всего полтора часа» – не производит на него никакого впечатления. Итак, фантастические преувеличения сказки придают ей оттенок психологической достоверности, тогда как реалистические объяснения выглядят недостоверными, хотя они в точности придерживаются фактов.
История о рыбаке и джинне – хороший пример, поясняющий, почему текст, упрощенный и очищенный от выражений, которые якобы нельзя произносить при детях, утрачивает ценность. На первый взгляд не обязательно сообщать о том, что джинн поначалу думает так, а потом этак (сначала он собирается наградить того, кто его освободил, но в итоге решает покарать его). Рассказ можно упростить: злой джинн хотел убить своего спасителя, а тот, будучи всего лишь слабым человеком, тем не менее сумел перехитрить могущественного духа. Но при таком упрощении мы получим всего-навсего страшную историю со счастливым концом, лишенную психологической правды. Именно то, что желание джинна наградить сменяется желанием покарать, позволяет ребенку «вчувствоваться» в эту историю. Поскольку она удивительно верно описывает, что происходило в сознании джинна, мысль о том, что рыбаку удалось одурачить врага, также начинает казаться правдоподобной. Именно устранение из сказки этих на первый взгляд несущественных элементов приводит к тому, что ее глубинный смысл оказывается утрачен, и в результате дети теряют интерес к сказочным историям.
Пусть и неосознанно, ребенок торжествует, видя в сказке предупреждение тем, кто имеет власть «засадить его в бутылку». Современных историй о том, как ребенок сумел перехитрить взрослого, множество. Но они чересчур прямолинейны и потому не дают пережить в фантазиях облегчение от постоянной жизни под гнетом власти взрослых. Кроме того, они могут напугать ребенка, чья безопасность зависит от взрослого, ведь тот, можно сказать, более состоятелен во всех отношениях, нежели ребенок, и способен обеспечить ему надежную защиту.
Перехитрить джинна или великана – это здорово; обмануть взрослого – вовсе нет. Если сказать ребенку, что он сможет оставить в дураках таких людей, как отец и мать, это, конечно, вызовет удовольствие. Однако в то же время он ощутит тревогу: если это так и его родители столь доверчивы, они не смогут надежно защитить его! Но поскольку великан – воображаемая фигура, ребенок может предаться фантазиям о том, как он перехитрил его, и не только одолел, но и уничтожил, и при этом верить в то, что реальные взрослые – его надежные защитники.
Сказка «Рыбак и джинн» имеет ряд преимуществ перед сказками из цикла о Джеке («Джек – победитель великанов», «Джек и бобовый стебель»). Поскольку рыбак не только взрослый человек, но и отец, история намекает ребенку, что его родитель тоже может ощущать угрозу сил, куда более могущественных, чем он сам. Однако у него хватит ума, чтобы одолеть их. С этой сказкой ребенку поистине удается извлечь лучшее из обоих миров. Он может примерить на себя роль рыбака и вообразить, что перехитрил великана. Или он может вообразить, что рыбак – это его отец, а сам он – дух, способный угрожать отцу, и при этом сохранить уверенность в том, что все тот же отец в конце концов выйдет из этой истории победителем.
Обратим внимание на незаметную на первый взгляд, но важную деталь «Рыбака и джинна»: рыбаку предстоит трижды потерпеть неудачу, прежде чем он выловит сосуд с заключенным в нем духом. Проще было бы начать историю с того момента, как роковой сосуд попадает в сети. Однако эта деталь подсказывает ребенку (без какого бы то ни было морализаторства), что ожидать успеха с первой, со второй или даже с третьей попытки не следует. Сделать дело не так просто, как нам кажется или как нам хотелось бы. Тот, кто не отличается настойчивостью, может подумать, что первые три улова рыбака подразумевают пожелание сдаться, ведь каждая следующая попытка оканчивалась хуже предыдущей. Мысль о том, что, потерпев поначалу неудачу, сдаваться все же не следует, чрезвычайно важна для детей: ее содержит множество басен и сказок. Сообщение оказывается действенным в том случае, если подано не как мораль или требование, но между прочим; это помогает нам поверить, что так следует поступать и в жизни. Более того, победа над огромным джинном (поистине магическое событие!) требует усилий и хитрости; ради такого дела стоит оттачивать остроту ума и продолжать свои попытки, какая бы задача перед вами ни стояла.
У этой истории есть и другая особенность, которая также может показаться несущественной, но устраните ее из повествования – и его эффект в значительной степени ослабеет: это параллель между четырьмя попытками рыбака, которые в конце концов увенчались успехом, и, скажем так, четырьмя стадиями гнева джинна. Благодаря этому зрелость родителя-рыбака и незрелость джинна сопоставляются друг с другом. Указанная особенность имеет отношение к важнейшей проблеме, которую ставит перед нами жизнь в самом раннем возрасте. Чему следует подчиняться: эмоциям или рассудку?
Если изложить этот конфликт, пользуясь психоаналитическими терминами, то он символизирует тяжелую битву, в которой приходится участвовать всем нам. Поддаться ли влиянию принципа удовольствия, побуждающего нас искать немедленного удовлетворения желаний? Пытаться ли жестоко отомстить за разочарования – даже тем, кто в них не виноват? Или следует отказаться жить под влиянием таких импульсов и выбрать жизнь, где господствует принцип реальности, согласно которому мы должны с готовностью принимать множество разочарований, чтобы в награду обрести нечто надежное? Рыбак не поддался разочарованию и не опустил рук – он выбрал принцип реальности, который в конце концов привел его к успеху.
Решение, связанное с отказом от принципа удовольствия, настолько важно, что попытки учить ему делаются во многих мифах и сказках. Чтобы разрешить проблему этого выбора, миф избирает прямой путь дидактики. Сказка же действует куда более мягко, косвенным путем; она не выдвигает требований и потому психологически более эффективно доносит свое сообщение. В качестве иллюстрации рассмотрим миф о Геракле[16].
В мифе говорится о том, как для Геракла настало время, когда должно было выясниться, употребит ли он свои способности во благо или во зло. Геракл покинул пастухов и отправился в уединенное место, чтобы поразмыслить, каким путем в жизни следовать. Пока он сидел, погруженный в свои думы, к нему приблизились две женщины, высокие ростом. Одна, красивая и благородная, держалась скромно. Другая, полногрудая, соблазнительная, вела себя вызывающе. Первая женщина, говорится далее, была Добродетель, вторая – Удовольствие. И та и другая обещали Гераклу свои дары, если он изберет предложенный ими путь в жизни.
Геракл на распутье – хрестоматийный образ, ибо всех нас, подобно ему, пленяет видение вечного легкодоступного наслаждения: мы будем «срывать плоды чужих трудов и не отринем ничего из того, что сможет принести выгоду», как то обещает «Праздное Удовольствие, притворяющееся Вечным Счастьем». Но нас также манит и Добродетель, ее «долгий и трудный путь к совершенству». Она учит: «Ничто не дается человеку без усилий и трудов… Если ты желаешь, чтобы город оказал тебе почести, тебе предстоит отслужить ему; если ты желаешь собрать урожай, нужно засеять поле».
Отличие мифа от сказки ярко проявляется в том, что миф прямо называет женщин, беседующих с Геркулесом, Праздным Удовольствием и Добродетелью. Как и персонажи сказок, эти две женщины воплощают в себе внутренние стремления и мысли героя, противоречащие друг другу. В этом мифе они олицетворяют альтернативу, хотя четко подразумевается, что на самом деле альтернативы нет: выбирая между Праздным Удовольствием и Добродетелью, нам следует остановить свой выбор на Добродетели. Сказка никогда не говорит с нами столь открыто и не дает прямых указаний, как мы должны поступить. Вместо этого она развивает в детях желание глубже осознать, что происходит у них в душе, и в этом им помогают скрытые смыслы сказки. Сказка убеждает, обращаясь к нашему воображению; кроме того, на нас производит впечатление благополучный исход событий.
13
Рассматривая «Рыбака и джинна», мы берем за основу перевод «Тысячи и одной ночи», выполненный Бертоном.
«Дух в бутылке» – сказка, вошедшая в сборник «Сказки братьев Гримм». Эта книга неоднократно переводилась на английский язык, но публикаций, где переводчики аккуратно следуют оригиналу, немного. Приемлемыми среди них можно считать следующие: Grimm’s Fairy Tales, New York, Pantheon books, 1944 и Grimm’s German Folk Tales, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1960.
В исследовании Больте и Поливки каждая сказка из сборника братьев Гримм рассматривается с точки зрения происхождения; учитываются ее варианты, бытующие по всему миру, их связь с другими легендами и сказками и т. д. [Johannes Bolte and Georg Polivka, Anmerkungen zu de Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 5 vols, Hildesheim, Olms, 1963.].
«Дух в бутылке» может послужить иллюстрацией того, как родительские установки вынуждают ребенка пуститься в фантазии об обретении способностей и сил, которые обеспечат ему превосходство над отцом. Семья героя сказки насколько бедна, что он вынужден бросить школу. Он предлагает помощь в работе отцу, нищему дровосеку, но тот, будучи невысокого мнения о способностях сына, отвечает: «Ты к тяжелой работе непривычен, тебе трудненько придется, не сдюжишь».
После того как отец и сын проработали все утро вместе, дровосек предлагает отдохнуть и пообедать. Сын отвечает, что хочет побродить по лесу в поисках птичьих гнезд, на что отец восклицает: «Э, какой шустрый! Чего тебе там шататься? Устанешь, а потом и руки не подымешь».
Таким образом, отец унизил сына дважды. Вначале он усомнился в его способности выполнять трудную работу; затем – даже после того как сын показал свою стойкость – с презрением отверг его мысль насчет того, как провести время отдыха. Какой нормальный мальчик пубертатного возраста, приобретя такой опыт, не подумает: «Отец ошибается! Я куда лучше, чем он воображает!» – и не начнет фантазировать о том, как дать понять родителю, что тот не прав?
Сказка позволяет фантазии сбыться. Сын бродит в поисках птичьих гнезд и вдруг слышит голос: «Выпусти меня! Выпусти!» Так он находит духа, заточенного в бутылку. Однако дух поначалу угрожает расправиться с ним, желая отомстить за то, что его заточение продлилось так долго. Сообразительный мальчик заставляет духа вернуться в бутылку (совсем как рыбак в сказке из «Тысячи и одной ночи»). Лишь после того как дух дарит ему волшебный лоскут, герой освобождает его. Любая рана исцеляется, если потереть ее одним концом лоскута; предмет, потертый другим концом лоскута, становился серебряным. Обращая предметы в серебро, мальчик обеспечивает благосостояние себе и отцу, «а так как он мог исцелять любые раны, он сделался самым знаменитым лекарем на свете».
Мотив злого духа, заточенного в бутылке, восходит к очень древним иудео-персидским легендам, согласно которым царь Соломон порой заключал непослушных или вольнодумных духов в металлические ларцы, медные сосуды или меха для вина и кидал их в море. Сказка «Рыбак и джинн» отчасти связана с этой традицией, о чем свидетельствует рассказ джинна рыбаку. Тот говорит, что восстал против Соломона, который в наказание закрыл его в бутылке и бросил в море.
В «Духе в бутылке» этот древний мотив сплетается с двумя традициями сразу. Одна, также уходя корнями в легенды о царе Соломоне, представляет собой средневековый рассказ о дьяволе, который похожим образом попадает в заключение. Некий благочестивый человек либо заточает его, либо освобождает, и дух оказывается вынужден служить своему спасителю. Вторая традиция берет свое начало в повествованиях об историческом лице – Теофрасте Бомбасте Парацельсе фон Гогенгейме, знаменитом враче немецко-швейцарского происхождения, жившем в XVI веке. Совершенные им якобы чудесные исцеления будоражили воображение европейцев столетие за столетием.
Согласно одной из таких историй, Парацельс услыхал из-под корней смоковницы голос, окликавший его по имени. Он понял, что его зовет бес, заточенный в обличье паука в крохотной щели в древесном стволе. Парацельс предложил злому духу свободу в обмен на лекарство, способное исцелить любые раны, и настойку, с помощью которой можно было бы превратить в золото все что угодно. Бес повиновался, но затем возжелал напасть на святого, который заточил его, и расправиться с ним. Чтобы предотвратить это, Парацельс выразил сомнение: неужели такой большой бес способен превратиться в такого маленького паука? Бес, желая показать свое умение, вновь принял обличье паука, и Парацельс вновь заточил его в стволе дерева. Эта история, в свою очередь, восходит к гораздо более древнему повествованию о маге по имени Виргилий (см. в указанном сочинении Bolte and Polivka).
14
Наиболее исчерпывающий перечень сказочных мотивов (включающий в себя и мотивы великана или духа в бутылке) составлен Антти Аарне (Antti A. Aarne, The Types of the Folktale, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1961) и Ститом Томпсоном (Stith Thompson, Motif Index of Folk Literature, 6 volumes, Bloomington: Indiana University Press, 1955) [Ср.: Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929.]. В «Индексе» Томпсона мотив духа, которого обманом вынудили уменьшиться и вернуться в бутылку, значится под номерами D1240, D2177.1, R181, K717 и K722. Было бы излишним перечислять соответствующие данные при упоминании всех сказочных мотивов, которые приводятся в этой книге, тем более что конкретные воплощения того или иного мотива можно легко проследить, воспользовавшись этими указателями.
15
Насколько может обеспокоить ребенка мысль о том, что в нем, неведомо для него самого, идут некие мощные процессы, свидетельствует пример одного семилетнего мальчика. Родители попытались ему объяснить, что эмоции «подхватывают» и «уносят» его, поэтому он делает вещи, коих ни они, ни он сам категорически не одобряют. В ответ ребенок воскликнул: «Значит, во мне есть машина, которая тикает круглые сутки и может взорваться в любую минуту?» В течение некоторого времени он жил в постоянном страхе, думая, что над ним нависла угроза самоуничтожения.
16
Изложение мифа о Геракле и других греческих мифов, сопровождающееся их анализом, приводится в книге Густава Шваба «Боги и герои: мифы и эпос Древней Греции» [Шваб Г. Б. Мифы и притчи классической древности. М., 2018.].