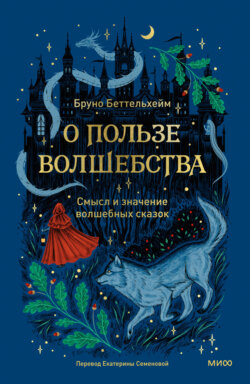Читать книгу О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок - Беттельхейм Бруно - Страница 7
Часть I. Полный карман чудес
Детям нужно волшебство
ОглавлениеИ мифы, и волшебные истории отвечают на вечные вопросы. Каков мир на самом деле? Как я должен прожить жизнь в этом мире? Как мне стать самим собой? Мифы дают конкретные ответы, тогда как сказки предлагают лишь намеки. Сообщения, которые они несут, подразумевают решения, но решения эти никогда не бывают изложены, что называется, прямым текстом. Применение того, что сообщает сказка о жизни и человеческой природе, остается на усмотрение ребенка: пусть он фантазирует об этом как хочет.
Сказочное повествование выдержано в манере, как нельзя более соответствующей особенностям мышления и мировосприятия ребенка, вот почему он находит сказку столь убедительной. То утешение, которое он черпает в сказке, оказывает на него куда большее воздействие, чем то, которое он может обрести, прислушавшись к аргументам и точке зрения взрослых. Дитя доверяет тому, что сообщает сказка, так как сказочная картина мира соотносится с его собственной.
Сколько бы ни было нам лет, силой убеждения для нас обладает лишь то повествование, что соотносится с принципами, определяющими ход нашей мысли. Это справедливо для взрослых, научившихся принимать тот факт, что одной системы координат недостаточно для того, чтобы составить себе представление о мире (хотя нам трудно, если вообще возможно, помыслить его в какой бы то ни было системе отсчета, кроме своей собственной). Тем более это справедливо для ребенка, поскольку ему свойственно анимистическое мышление.
Подобно представителям дописьменных культур (и многим представителям культур письменных), «дитя полагает, что между отношениями с неодушевленным и одушевленным миром людей нет никакой разницы: он ласкает хорошенькую вещицу, как ласкал бы мать, и бьет дверь, которая ушибла его»[22]. Нужно прибавить, что первое он делает оттого, что убежден, будто этой вещице так же нравится, когда ее гладят, как и ему, и наказывает дверь, поскольку уверен, что дверь ушибла его нарочно, вследствие злого умысла.
Как показал Пиаже, мышление ребенка остается анимистическим вплоть до наступления пубертата. Родители и учителя говорят ему, что вещи не могут ни чувствовать, ни действовать. Он изо всех сил притворяется, будто верит их словам, желая угодить им или опасаясь насмешек, но про себя думает: «Меня не проведешь!» Наставники ребенка придерживаются рационалистических взглядов; он еще глубже прячет в душе «истинное знание», и оно остается не затронуто рационализмом. Однако то, что несут в себе волшебные сказки, может придать этому знанию форму и одухотворить его.
Для восьмилетнего ребенка (мы используем примеры Пиаже) солнце живо, потому что дает свет (и, прибавим, дает свет потому, что хочет этого). Для анимистического сознания ребенка камень живой, поскольку способен двигаться (например, когда катится с холма). Даже в двенадцать с половиной лет ребенок убежден, что ручей живой и что у него есть своя воля, ведь он течет! Солнце, камень и вода, по мнению детей, населены духами, очень похожими на людей, поэтому они чувствуют и действуют подобно людям[23].
Для ребенка нет четкой границы между неодушевленными предметами и живыми существами; при этом жизнь любого живого существа весьма похожа на ту, которую ведет он. Если мы не понимаем, что говорят нам скалы, деревья и животные, то лишь оттого, что недостаточно внимательно прислушиваемся к ним. Ребенок пытается понять этот мир, и ему кажется естественным ждать ответа от вещей, возбуждающих его любопытство. И поскольку ребенку присущ эгоцентризм, он ожидает, что животное заговорит с ним о вещах, по-настоящему важных для него, как то делают животные в сказках и как то делает сам ребенок, беседуя с настоящими или игрушечными животными. Дитя убеждено, что животное понимает его и сочувствует ему, даже если не показывает этого.
Животные свободно гуляют по всему свету, поэтому совершенно естественно, что в сказках они могут стать проводниками героя, когда он, ведомый своей целью, отправляется в дальние края. Раз все, что движется, живо, ребенок верит, будто ветер способен поговорить и отнести персонажа туда, куда тот должен попасть, как то происходит в сказке «На восток от солнца, на запад от луны»[24],[25]. В рамках анимистического мышления не одни лишь животные чувствуют и двигаются так же, как мы. Даже камни наделены жизнью, так что, если существо обратилось в камень, это означает лишь то, что в течение некоторого времени оно вынуждено молчать и оставаться неподвижным. По тем же причинам можно безоговорочно верить, будто предметы, прежде молчавшие, начинают говорить, давать советы и присоединяются к герою в его странствиях. И поскольку все вокруг населено душами, похожими друг на друга (точнее, все предметы ощущаются ребенком как обиталище его собственной души), то вследствие этого внутреннего сходства нет ничего удивительного в том, что человек может превратиться в животное и наоборот, как то происходит в «Красавице и Чудовище» или «Королевиче-лягушке»[26]. А раз между живым и мертвым нет четкой границы, последнее также может ожить.
Когда, подобно великим философам, дети пытаются дать ответ на «последние» вопросы: «Кто я? Как мне следует справляться с проблемами, которые ставит жизнь? Кем я должен стать?» – они делают это в рамках анимистического мышления. Но поскольку ребенок испытывает сильную неуверенность насчет того, что представляет собой его существование, прежде всего он задается вопросом: «Кто я?»
Как только ребенок обретает способность двигаться и исследовать мир, он начинает размышлять о проблеме собственной идентичности. Когда он разглядывает собственный образ в зеркале, он задумывается: видит ли он себя? Или за этой стеклянной стеной стоит ребенок, в точности похожий на него? Он строит гримасы, вертится так и этак, отступает от зеркала и подскакивает к нему, чтобы убедиться: ушел ли этот другой? Или он еще там? Еще совсем маленьким, будучи трех лет от роду, ребенок оказывается перед непростой проблемой личностной идентичности.
Ребенок задается вопросами: «Кто я? Откуда я пришел? Как был создан этот мир? Кто создал человека и животных? Какова цель жизни?» Правда, он обдумывает эти первостепенной важности вопросы не абстрактно, но в основном постольку, поскольку они имеют отношение к нему. Его не беспокоит, существует ли справедливость по отношению к людям на белом свете, – он хочет знать, поступят ли по справедливости с ним самим. Он задумывается: могут ли невзгоды грозить ему? От кого (или от чего) исходит опасность? Как предотвратить ее? Существуют ли, помимо родителей, силы, благожелательно настроенные по отношению к нему? И желают ли ему добра его собственные родители? Как работать над собой и почему стоит делать это именно таким способом? Стоит ли надеяться на лучшее, несмотря на совершенные ошибки? Почему все это случилось именно с ним? И как случившееся повлияет на его будущее? Сказки дают ответы на эти насущные вопросы, причем сами вопросы (по крайней мере, многие из них) приходят ребенку на ум лишь в процессе чтения.
С точки зрения взрослого (и в свете современной науки), ответы, предлагаемые волшебной сказкой, ближе к фантастике, нежели к истине. По правде говоря, взрослые (изрядно подзабыв, как люди познают мир в молодые годы) считают советы сказки столь нелепыми, что заявляют: нечего сообщать детям эти «ложные» сведения! Однако объяснения, сделанные с реалистических позиций, как правило, не годятся для ребенка: чтобы понять их смысл, детям недостает умения мыслить абстрактно.
Предлагая ребенку ответ, правильный с точки зрения науки, взрослые полагают, что ему все стало ясно. Но малыша такое объяснение оставляет сбитым с толку. Понять взрослых ему не по силам; можно сказать, он терпит поражение. Ощущение безопасности у ребенка может возникнуть только благодаря убеждению, что если прежде он никак не мог разобраться в том или этом, то теперь ему все понятно. Но если полученное знание вновь привносит неопределенность, никакого ощущения безопасности у ребенка не сформируется. И если даже ребенок принимает подобный ответ, то начинает сомневаться: правильно ли он задал вопрос? Раз объяснение остается ему непонятным, значит, оно должно касаться какой-то неведомой проблемы, а вовсе не того, о чем он спрашивал.
Именно поэтому важно помнить, что лишь утверждения, понятные с точки зрения уже имеющихся у ребенка знаний и эмоциональных пристрастий, выглядят убедительными для него. Предположим, вы расскажете ребенку, что земля плывет в пространстве и сила притяжения заставляет ее двигаться вокруг солнца. Однако она не падает на солнце (хотя сам ребенок падает на землю). В итоге вы собьете его с толку! На собственном опыте он знает, что все должно покоиться на чем-то или чем-то поддерживаться. Только объяснение с опорой на такое знание даст ему почувствовать, что он стал лучше понимать, как обстоят дела с землей в космосе. Еще важнее следующее: чтобы ощущать себя на земле в безопасности, ребенок должен верить, что мир надежно закреплен. Поэтому он предпочитает объяснение, предлагаемое мифом: земля покоится на черепахе (или ее поддерживает великан).
Ребенок может согласиться с тем, что ему говорят родители: земля – планета, которую надежно удерживают на ее траектории силы гравитации. Но тогда ему остается одно: вообразить эту гравитацию в виде каната. Таким образом, родительские объяснения не дают понимания и ощущения безопасности. Требуется значительная интеллектуальная зрелость, чтобы поверить в возможность стабильной жизни, когда земля, по которой мы ходим (та, что прочнее всего, что окружает человека, та, на которой все покоится!), вращается с невероятной скоростью вокруг невидимой оси. Вдобавок она кружится вокруг солнца, да еще и мчится сквозь пространство вместе со всей солнечной системой… Я ни разу не встречал юнца, не достигшего переходного возраста, который бы понимал, как эти движения происходят одновременно, хотя и знавал немало ребят, способных повторить эту информацию. Согласно их собственному опыту, это ложь. Однако дети повторяют ее как попугаи. Они обязаны верить, что это правда, ведь так сказал кто-то из взрослых. Вследствие этого дети перестают доверять собственному опыту, отсюда проистекает неверие в себя и в способность сознания служить его обладателю.
Осенью 1973 г. в новостях появилось сообщение о комете Когоутека. В то время сведущий в науке преподаватель рассказал о комете группе учеников второго и третьего классов, весьма сообразительных. Каждый ребенок аккуратно вырезал бумажный круг и нарисовал на нем орбиты планет Солнечной системы. Бумажный эллипс, вставленный в разрез бумажного круга, давал возможность представить путь кометы. Дети продемонстрировали мне комету, двигавшуюся под углом к орбитам планет. Когда я стал задавать им вопросы, они сообщили мне, что держат комету в руках, и показали мне бумажный эллипс. Когда же я заметил: «Она у вас в руках! Как же она одновременно может находиться на небе?» – все растерялись.
В замешательстве они обратились к учителю, который старательно объяснил им: «То, что вы так аккуратно сделали и держите в руках, – это всего лишь модель планет и кометы». Дети хором заявили, что поняли учителя (и повторили бы информацию, если бы им впоследствии задали вопрос). Но если прежде они гордо разглядывали свои конструкции из круга и эллипса, то сейчас утратили к ним всякий интерес. Кто-то смял бумагу, кто-то выбросил модель в мусорную корзину. Пока дети считали листки бумаги настоящей кометой, они собирались принести их домой и показать родителям, но теперь поделки утратили для них какое бы то ни было значение.
Пытаясь подвести ребенка к восприятию объяснений, корректных с научной точки зрения, родители слишком часто сбрасывают со счетов (опять-таки научные!) представления о том, как работает детское сознание. Исследования процессов, протекающих в детской психике (особенно предпринятые Пиаже), убедительно показывают, что ребенок младшего возраста не в состоянии осознать основополагающие абстрактные принципы – постоянство количества вещества и обратимость. К примеру, у него вызывает затруднение тот факт, что одно и то же количество воды в узком сосуде поднимается высоко, а в широком сосуде остается на низком уровне; также он не понимает, что изъятие и прибавление – противоположные процессы. Пока ребенок не научится осознавать подобные названным выше абстрактные представления, ему доступно лишь субъективное переживание мира[27].
Научное объяснение требует объективного мышления. И теоретические изыскания, и экспериментальные исследования показали, что ни один ребенок, не достигший школьного возраста, не способен по-настоящему усвоить эти два принципа, без чего абстрактное понимание невозможно. В раннем возрасте, примерно до восьми-десяти лет, ребенок может формировать лишь в высшей степени субъективные представления о том, что он испытывает. По этой причине для него естественно считать, что земля – это мать, или женское божество, или по крайней мере его обиталище, ведь растения, растущие из земли, питают его так же, как питала мать своей грудью.
Даже маленький ребенок каким-то образом догадывается, что создан родителями, и оттого ему не составляет труда представить себе, что, подобно ему, все люди и места их обитания были сотворены некоей сверхъестественной фигурой, напоминающей отца или мать, – мужским или женским божеством. Поскольку родители присматривают за ребенком и обеспечивают его домашние потребности, естественно, он также верит, что кто-то вроде них, только куда более могущественный, мудрый и надежный – ангел-хранитель, – будет делать то же самое вне дома, в мире.
Таким образом, ребенок, опираясь на собственный опыт, представляет себе миропорядок, основываясь на образах своих родителей и на том, что происходит в его семье. Подобно ему, древние египтяне представляли себе небеса в виде материнской фигуры (Нут), которая защищает землю, склоняясь над ней и тихо обнимая их и ее[28]. Подобные воззрения (заметим, что они вовсе не мешают человеку в дальнейшем вырабатывать более рациональное объяснение мира) обеспечивают безопасность там (и тогда), где (и когда) она нужна более всего, – безопасность, которая, когда придет время, даст возможность сформулировать по-настоящему рациональные взгляды на мир. Жизнь на маленькой планете, окруженной бесконечным космосом, кажется ребенку ужасно одинокой и холодной, то есть полностью противоположной тому, какой, по его представлениям, она должна быть. Вот почему древние нуждались в том, чтобы их укрывала и согревала материнская фигура, обнимавшая все и вся. Обесценить обеспечивающий защиту образ наподобие этого, увидев в нем не более чем ребячество и проекции незрелого разума, означает (пусть частично) лишить ребенка того, что продолжительное время дарит ему безопасность и утешение, в которых он нуждается.
Правда, если слишком долго цепляться за представление о небе-матери, которое дарит защиту и укрытие, это может стать причиной ограниченности сознания ребенка. Ни инфантильные проекции, ни зависимость от воображаемых защитников (таких как ангел-хранитель, который приглядывает за тобой, пока ты спишь или мамы нет дома) не обеспечивают подлинной безопасности. Но пока человек не в состоянии обеспечить эту безопасность для самого себя, образы, созданные его фантазией, и проекции гораздо предпочтительнее отсутствия безопасности как таковой. Именно эта (отчасти существующая лишь в воображении) безопасность позволяет ребенку, если он ощущает ее длительное время, развить ощущение уверенности в жизни, столь нужное ему для развития доверия к себе; доверие же это необходимо, чтобы он учился разрешать жизненные проблемы, используя свои постепенно развивающиеся рациональные способности. В конечном счете ребенок осознает: выражения, за которыми, как ему казалось, кроется непосредственная реальность («земля – это мать»), имеют лишь символический смысл.
К примеру, ребенок узнает из волшебных сказок, что фигура, которая поначалу производит отталкивающее впечатление и несет в себе угрозу, может чудесным образом сделаться другом, способным оказать неоценимую помощь. Теперь он с готовностью верит, что встреченный им чужой мальчик, которого он побаивается, может оказаться вовсе не опасным и сделаться хорошим товарищем. Вера в то, что сказки – это «правда», придает ему смелости и позволяет не отступать, руководствуясь первым – отталкивающим – впечатлением, которое произвел на него этот чужак. Вспоминая, как герои множества волшебных сказок добиваются успеха в жизни благодаря тому, что осмеливаются завести дружбу с, казалось бы, неприятным типом, дитя верит, что подобное чудо может произойти и в его жизни.
Мне известно немало детей, которые верили в магию в старшем подростковом возрасте, причем вера эта сохранялась у них годами: она была призвана компенсировать отсутствие ее в детстве, когда суровая реальность не щадила их. Кажется, эти юноши и девушки чувствовали, что это их последний шанс восполнить серьезный дефицит житейского опыта или что, не приобщившись на какое-то время к этой вере, они не смогут справиться с тяготами взрослой жизни. Многие молодые люди в наши дни вдруг начинают искать убежища в наркотиках, становятся учениками разнообразных гуру, вовлекаются в занятия черной магией или иными способами бегут от реальности в мечты о волшебстве, способном изменить их жизнь к лучшему. В детстве они были вынуждены рассматривать реальность с взрослой точки зрения. Попытки ускользнуть от реальности подобными способами связаны по преимуществу с ранним опытом, который оказывает формирующее воздействие на детей: он помешал развить убеждение в том, что с жизнью можно справиться, действуя с реалистических позиций.
По-видимому, желательно, чтобы в жизни индивида имел место процесс, аналогичный тому, что наблюдался в истории развития научной мысли. Длительное время люди прошлого использовали эмоциональные проекции (например, фигуры богов) – порождения их незрелых чаяний и тревог, чтобы объяснить, что есть человек, общество и вселенная; объяснения эти обеспечивали им ощущение защищенности. Затем мало-помалу, благодаря общественному, научному и техническому прогрессу, человек освободился от постоянного страха за собственное существование. Ощутив себя в относительной безопасности во внешнем, а также в собственном внутреннем мире, человек смог задаться вопросом: насколько действенны образы, которые он использовал для объяснений в прошлом? С тех пор детские проекции утратили силу, на их место пришли более рациональные объяснения. Однако никак нельзя сказать, что процесс, о котором идет речь, шел гладко. В переходные периоды стресса, переживая лишения, человек вновь ищет утешения в детском представлении, будто он и место его обитания являются центром вселенной.
Если выразить сказанное выше с точки зрения представлений о человеческом поведении, то чем более безопасно человек ощущает себя в мире, тем он более свободен от «инфантильных» проекций – объяснений, предлагаемых мифами, или решений вечных проблем, которые можно вычитать из сказок, – и тем более способен на поиск объяснений рациональных. Чем безопаснее внутренний мир человека, тем более он в состоянии принять объяснение, которое гласит, что его мир не слишком-то важен в масштабах космоса. Когда человек ощущает, что по-настоящему важен для тех, кто находится рядом с ним, его мало заботит, какое значение имеет для космоса его планета. С другой стороны, чем менее безопасно ощущает себя человек наедине с самим собой и на своем месте в мире, непосредственно окружающем его, тем более он углубляется в себя, гонимый страхом, или же движется вовне, дабы вести завоевания ради завоеваний. Последнее полностью противоположно разысканиям с позиций безопасности: будучи в безопасности, мы даем волю своей любознательности.
По тем же самым причинам ребенок – до тех пор, пока он не уверился в том, что ближайшее окружение защитит его, – нуждается в вере, будто высшая сила (например, ангел-хранитель) присмотрит за ним и что мир и место, которое занимает в нем он сам, имеют для него первостепенное значение. Здесь мы наблюдаем одну из связей между способностью семьи обеспечить ребенку основные гарантии существования и его готовностью затевать исследования с рациональных позиций, когда он подрастет.
Пока родители безоговорочно верили в то, что в библейских историях содержится разгадка нашего существования и его цели, у ребенка легко формировалось ощущение безопасности. Библия считалась вместилищем ответов на все насущные вопросы: она рассказывала человеку все, что ему было нужно, чтобы составить понимание о мире, о том, как он появился и как следует вести себя в нем. В западном мире человек также находил в Библии модели, от которых отталкивалось его воображение. Но при всем богатстве библейских сюжетов даже во времена абсолютного господства религии их было недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды человеческой психики.
Отчасти причина этого заключается в том, что, хотя Ветхий Завет, Новый Завет и жития святых дают ответы на важнейшие вопросы о том, как вести праведную жизнь, они не предлагают решений проблем, связанных с темной стороной нашей личности. По сути, библейские истории подсказывают лишь одно решение проблемы существования асоциальных аспектов бессознательного – подавление этих (неприемлемых) стремлений. Но дети, не контролирующие сознательно свое «оно», нуждаются в историях, которые позволят им хотя бы в фантазиях удовлетворить эти «дурные» стремления и обеспечить конкретные способы их сублимации.
И прямо, и косвенно Библия повествует о требованиях Бога по отношению к человеку. Конечно, мы читаем, что раскаявшийся грешник вызывает радости более, чем тот, кто никогда не заблуждался, но основная мысль все же заключается в том, что нам следует вести добродетельную жизнь и, к примеру, не мстить кровавой местью тем, кого мы ненавидим. Как показывает история Каина и Авеля, в Библии нет сочувствия ярости, порождаемой соперничеством между братьями, – лишь предупреждение, что подчинение ей приводит к гибельным последствиям.
Но более всего ребенок, охваченный ревностью по отношению к брату или сестре, нуждается в разрешении ощутить следующее: то, что он испытывает, нормально в ситуации, в которой он оказался. Выдержать мучительные приступы зависти ребенку помогут фантазии о том, что некогда он поквитается с соперником, причем должен найтись некий способ ободрить его в этих фантазиях. Тогда в трудную минуту он сможет совладать с собой благодаря убеждению, что будущее расставит все по своим местам. Более всего дитя надеется обрести опору в другом убеждении (все еще весьма слабом), что, становясь взрослее, упорно работая и обретая зрелость, в один прекрасный день он одержит победу. Если будущее вознаградит его за теперешние страдания, то припадок ревности не побудит его к действиям, как то случилось с Каином.
Подобно библейским историям и мифам, сказки являли собой литературу, на которой люди – от мала до велика – учились едва ли не всему, что составляет человеческое существование. Во многих библейских историях можно усмотреть значительное сходство со сказками (правда, есть и отличие, поскольку центром их является Бог). В истории Ионы и кита, к примеру, Иона пытается бежать от требования своего сверх-«я» (совести), зовущего его на борьбу с пороками обитателей Ниневии. Испытанием, которое служит проверкой его моральных качеств, как и во многих сказках, становится опасное путешествие: в ходе его герою предстоит показать, на что он способен.
Путешествуя по морю, Иона попадает во чрево кита. Здесь, в минуту страшной опасности, Иона обнаруживает в себе высокие моральные качества и, если можно так выразиться, самость высшего порядка; он чудесным образом перерождается. Теперь он готов выполнить жесткие требования своего сверх-«я». Однако чтобы снискать подлинную человечность, одного лишь перерождения недостаточно: тот, кто перестает пребывать в рабстве у «оно» и принципа удовольствия (то есть не пытается уклониться от выполнения трудных задач), а также в рабстве у сверх-«я» (то есть не желает разрушения города, погрязшего в пороках), обретает подлинную свободу и самость высшего порядка. Иона приобщается к человечности во всей ее полноте, лишь перестав зависеть от институций своего сознания: он отказывается от слепого повиновения своим «оно» и сверх-«я» и становится способен признать мудрость Господа, ибо тот не уподобился сверх-«я» Ионы и не вынес жесткого приговора обитателям Ниневии, но снизошел до их человеческой слабости.
ЗАМЕЩАЮЩЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРОТИВ ОСОЗНАНИЯ
Как всякое великое искусство, сказки приносят наслаждение и вместе с тем наставляют; их уникальность состоит в том, что, будучи непосредственно доступны детям, они делают и то и другое. В возрасте, когда подобные сюжеты имеют большое значение для ребенка, основная его проблема заключается в том, чтобы внести какой-то порядок в хаос, царящий в его сознании, дабы он смог лучше понять себя, – необходимый шаг, предваряющий достижение некоторой согласованности между его ощущениями и внешним миром.
Правдивые истории о реальности могут дать читателю ту или иную информацию, интересную и зачастую полезную. Но то, как разворачивается сюжет, чуждо способам функционирования сознания ребенка, не достигшего пубертата, так же как сверхъестественные события, о которых идет речь в сказках, чужды тому, как зрелый разум воспринимает мир.
Сугубо реалистические сюжеты противоречат опыту ребенка и тому, как он его переживает. Он будет прислушиваться к ним, и, возможно, они принесут ему некоторую пользу. Однако если говорить о личностном смысле, выходящем за пределы очевидного, он не сможет извлечь из них чего-то существенного. Эти истории информируют, но не обогащают (к сожалению, о том, чему учат в школе, по большей части можно сказать то же самое). Знание фактов приносит пользу личности в целом только в том случае, если оно приобретает личностный характер[29]. Объявить вне закона детскую литературу, выдержанную в реалистическом духе, было бы так же глупо, как запретить сказки: и то и другое занимает важное место в жизни ребенка. Но ограничить чтение ребенка только текстами первого типа означает посадить его на голодную диету. Когда же их чтение сочетается с подробным и психологически корректным погружением в мир сказки, ребенок получает информацию, обращенную к обеим сторонам его зарождающейся личности – рациональной и эмоциональной.
Некоторые черты сказок роднят их со сновидениями, но родство скорее наблюдается с тем, что происходит в сновидениях подростков или взрослых, а не детей. Сны взрослого человека могут показаться невероятными и недоступными пониманию, но если провести анализ и дать возможность человеку понять, на чем сосредоточено его бессознательное, то все детали обретут смысл. Анализируя сновидения, человек может куда лучше понять себя: он постигает те стороны своего сознания, которые ускользают от наблюдателя, искажаются или отрицаются им, – словом, остаются не распознанными как следует. Если учесть, что подобные неосознанные желания, потребности, импульсы и тревоги существенно влияют на поведение, новые открытия относительно самого себя, получаемые благодаря анализу сновидений, позволяют человеку гораздо более успешно строить собственную жизнь.
Сновидения детей очень просты: их содержание представляет собой исполнение желаний, тревоги же принимают в них осязаемую форму, – к примеру, ребенок видит во сне, как животное терзает его или пожирает кого-то. «Я» ребенка практически не затрагивает бессознательное содержание его сновидений; высшие функции сознания почти не оказывают воздействия на то, что он видит во сне. По этой причине дети не могут анализировать свои сны; более того, им не следует это делать. В особенности в старшем дошкольном возрасте дитя вынуждено вести продолжительную борьбу, дабы сдержать натиск своих желаний и не дать им целиком завладеть его личностью, и эту битву против сил бессознательного он чаще проигрывает, нежели выигрывает.
Эта борьба, под знаком которой проходит все наше существование, вспыхивает с особенной силой в подростковом возрасте, хотя, когда мы становимся старше, нам также приходится сдерживать иррациональные побуждения сверх-«я». С наступлением зрелости все три институции сознания: «оно», «я» и сверх-«я» – проявляют себя все более четко и отделяются друг от друга. Каждая оказывается способна взаимодействовать с двумя другими без того, чтобы бессознательное одерживало верх над сознательным. Перечень возможностей «я», позволяющих справляться с «оно» и сверх-«я», становится более разнообразным, и психически здоровый человек в случае нормального развития событий эффективно контролирует их взаимодействие.
Однако когда бессознательное пробуждается у ребенка, оно тут же захватывает всю его личность. Его «я» не укрепляется благодаря осознанию хаотического содержания бессознательного – оно оказывается ослаблено этим прямым контактом; можно сказать, оно опрокинуто и терпит поражение. Вот почему ребенку необходимо так или иначе выразить, что делается внутри него, если ему надобно как-то понять происходящее, не говоря уж о том, чтобы начать контролировать его. Ребенок должен каким-то образом дистанцироваться от содержания своего бессознательного и увидеть его как нечто внешнее по отношению к себе, дабы обрести над ним некоторую власть.
В игре (в данном случае речь идет о нормальной ситуации) предметы, такие как куклы и игрушечные звери, используются для воплощения различных аспектов личности ребенка, которые недоступны его контролю, слишком сложны и неприемлемы для него. Таким образом «я» ребенка получает возможность обрести некоторую власть над этими аспектами его личности; заметим, что ему не удается сделать это, когда в ответ на просьбу или под давлением обстоятельств он признает, что здесь имеет место отражение процессов, происходящих внутри него.
Некоторые импульсы бессознательного можно проработать с помощью игры. Однако многие из них не поддаются игре, поскольку они слишком сложны и противоречивы или же слишком опасны и осуждаются обществом. К примеру, выше мы писали о чувствах джинна, запечатанного в кувшине: они столь противоречивы и жестоки и грозят такими разрушениями, что ребенок не может отыграть их самостоятельно. Он толком не осознает эти чувства, чтобы выразить их в игре, да и последствия могут быть чересчур опасны. Отсюда следует, что знакомство со сказками становится неоценимым подспорьем для детей. Свидетельством тому является тот факт, что дети разыгрывают многие волшебные истории, но лишь после того, как познакомятся со сказкой, которую никогда не смогли бы выдумать самостоятельно.
К примеру, очень многие дети с огромным удовольствием разыгрывают сказку «Золушка», но только после того, как сказка эта сделалась частью их фантазий; в особенности это относится к счастливому разрешению ситуации острого соперничества между сестрами. Самостоятельно ребенок не может вообразить себе, что его выручат из беды и что те, кто (он убежден в этом!) презирает его и имеет власть над ним, в конце концов признают его превосходство. Многие девочки временами бывают столь глубоко убеждены, что во всех их неприятностях виновны злые мачехи (или матери), что вряд ли могут сами представить себе, что все может внезапно измениться. Но когда идея преподносится им, будучи воплощена в сказке, они могут поверить, что добрая мать (или фея) в любое мгновение придет на помощь, поскольку сказка убедительно сообщает, что все произойдет именно так.
Дитя может косвенным образом воплотить свои глубинные желания (такие как эдипово желание родить ребенка от матери или отца), заботясь об игрушечном или настоящем животном, как будто это младенец. Подобное поведение позволяет ему удовлетворить глубоко коренящуюся потребность выразить свое желание. Если мы поможем ребенку, подсказав, что именно кукла или животное олицетворяет для него и что он отыгрывает, нянча их (как случилось бы в психоаналитическом разборе сновидения взрослого человека), ребенок ощутит себя сбитым с толку, и справиться с этим переживанием в его годы ему будет не по силам. Дело в том, что у ребенка еще не полностью сформировано чувство идентичности. Пока идентичность (мужская или женская) по-настоящему не устоялась, она легко подвержена потрясениям или даже гибели в ситуации осознания сложных разрушительных желаний (в том числе эдиповых), противостоящих надежному ощущению идентичности.
Играя с куклой или животным, ребенок переживает замещающее удовлетворение желания дать жизнь ребенку и заботиться о нем, причем мальчик может это делать точно так же, как и девочка. Но, в отличие от девочки, мальчик может получать психологическое удовлетворение от игры с пупсом лишь до тех пор, пока ему не подсказали, какие именно бессознательные желания при этом удовлетворяются.
Можно возразить, что мальчикам полезно было бы осознавать свое желание вынашивать детей. Я придерживаюсь той точки зрения, что если мальчик способен действовать в соответствии со своим бессознательным желанием – играть в куклы, то это хорошо, и его игру следует одобрять. Подобное «овнешнение» бессознательных импульсов может быть ценным. Однако оно становится опасным, если осознание бессознательного смысла этого поведения происходит прежде, чем ребенок достигнет достаточной зрелости, чтобы сублимировать желания, которые невозможно удовлетворить в действительной жизни.
Многие девочки постарше очень любят лошадей, возятся с игрушечными лошадками и фантазируют на их счет, выдумывая замысловатые истории. С годами, если у них появляется возможность, они посвящают лошадям все свое время. Девочки ухаживают за ними (и делают это превосходно), их буквально не оторвешь от лошадей. В итоге психоаналитического исследования обнаружилось, что за чрезмерным увлечением лошадьми и уходом за ними может стоять множество различных эмоциональных потребностей, которые пытается удовлетворить девочка. К примеру, когда она управляет этим сильным животным, где-то в глубине души у нее может возникнуть ощущение, будто она контролирует мужчину или сексуально необузданна, как животное. Представьте себе, что случилось бы с удовольствием, которое она испытывает от езды, и с ее уважением к себе, если бы она осознала желание, которое отыгрывает, катаясь верхом. Она почувствовала бы себя опустошенной, лишившись безопасной и приносящей ей удовольствие сублимации, испытав унижение и став дурной в собственных глазах. В то же время ей пришлось бы безотлагательно заняться поисками столь же подходящей отдушины для подобных внутренних импульсов и, возможно, не удалось бы справиться с ними.
Что до сказок, можно заметить, что ребенку, не имеющему достаточного опыта чтения подобной литературы, приходится так же трудно, как девочке, которая нуждается в разрядке внутренних импульсов посредством верховой езды или заботы о лошадях, но лишена этого невинного удовольствия. Если рассказать ребенку, что сказочные персонажи символизируют в его психологии, у него окажется отнята чрезвычайно необходимая ему возможность выпустить энергию, тогда как необходимость осознания желаний, тревог и мстительных чувств, разрушающих его, приведет его к внутреннему опустошению. Подобно лошадям, сказки могут сослужить детям хорошую службу. И делают это. С ними жизнь кажется стоящей того, чтобы жить, даже если она невыносима, – до тех пор, пока ребенок не знает, что они означают для него психологически.
Сказке может быть свойственно немало особенностей, характерных также и для сновидений, однако она имеет перед ними значительное преимущество: ей присуща логичная структура с четким началом и сюжет, где события идут к развязке, способной удовлетворить читателей (что и происходит в финале). Сказка также имеет преимущество перед нашими фантазиями. К примеру, каким бы ни было содержание волшебной сказки (ее сюжет может быть близок фантазиям ребенка: эдиповым, садистским и мстительным или принижающим кого-то из родителей), о нем можно говорить открыто, ведь ребенку не нужно хранить в тайне свои чувства относительно сказочных событий или чувствовать себя виноватым за то, что его мысли доставляют ему удовольствие.
У сказочного героя особенное тело: оно позволяет совершать чудеса. Отождествляя себя с таким персонажем, любой ребенок, фантазируя, может благодаря идентификации компенсировать все недостатки собственного тела, реальные или кажущиеся. Он может вообразить, что, подобно сказочному герою, способен вскарабкаться на небо, сокрушить великана, изменить свой облик, стать могущественнее или красивее всех – словом, представить свое тело обладающим такими качествами и способным на такие вещи, которых, судя по всему, может пожелать любой ребенок. После того как самые грандиозные его желания таким образом осуществятся в воображении, он может в большей мере примириться со своим собственным телом – таким, каково оно на самом деле. Более того, сказка распространяет на ребенка идею принятия действительности, ведь, хотя по ходу сюжета герой претерпевает невероятные превращения, он вновь делается простым смертным, когда заканчивается борьба, и в финале сказки мы более ничего не слышим о его невероятной красоте или силе. (С героем мифа дело обстоит совершенно иначе: он навсегда сохраняет свои сверхъестественные способности.) Когда герой сказки в финале становится тем, кем должен был стать (и вместе с тем достигает безопасности в том, что касается его самого, его тела, жизни и положения в обществе), он счастлив быть таким, каков он есть, и в нем более не остается ничего необычного.
Чтобы волшебная сказка благотворно подействовала на ребенка и помогла ему спроецировать его чувства на внешний мир, он должен остаться в неведении относительно бессознательных импульсов, отвечая на которые он усваивает решения, подсказанные ему сказкой.
Сказка начинается там, где ребенок находится в данный момент на своем жизненном пути и где, не будь сказки, он «застрял бы» с ощущением, что им пренебрегли, что его отвергли и унизили. Затем, используя логику, свойственную ребенку (и противоположную рациональности, характерной для мышления взрослых), сказка являет ребенку грандиозные картины будущего, позволяющие преодолеть сиюминутное ощущение полной безнадежности. Чтобы поверить сказке и усвоить предлагаемую ею оптимистичную перспективу, ребенок должен прослушать ее много раз. Если он вдобавок «играет в нее», это сообщает ей еще большую «правдивость» и «реалистичность».
Ребенок чувствует, какая из множества сказок в данный момент лучше всего характеризует то внутреннее состояние, с которым он не может совладать сам, а также ощущает, где она дает ему «рычаг», с помощью которого он может справиться с трудной задачей. Однако ребенок лишь изредка распознает эту возможность немедленно, после первого же прослушивания сказки: слишком уж непривычными выглядят некоторые составляющие сказочной истории (иначе и быть не может, ведь они обращены к глубоко спрятанным эмоциям).
Дитя должно не раз и не два прослушать сказку, у него должно найтись достаточно времени и возможностей поразмыслить над ней. Только в этом случае оно сумеет в полной мере извлечь пользу из того, что ему предлагает сказка, дабы он мог лучше понять себя и собственное восприятие мира. Лишь тогда свободные ассоциации ребенка, в основе которых лежит сказка, помогут ему сформировать подлинно личностный отклик на ту или иную историю и тем самым совладать с проблемами, которые угнетают его. К примеру, слушая сказку впервые, дитя не может отождествить себя с персонажем противоположного пола. Потребуется время и усилие, прежде чем девочка сможет отождествить себя с Джеком из сказки «Джек и бобовый стебель», а мальчик с Рапунцель[30].
Я знал родителей, чьи дети, прослушав сказку, замечали: «Мне понравилось». Родители тут же начинали рассказывать следующую, думая, что она усилит удовольствие, полученное ребенком. Но его замечание, скорее всего, выражало еще не устойчивое ощущение, что этой истории есть что сказать ему – что-то такое, что окажется утрачено, если не дать ему возможности снова прослушать историю и времени уловить ее смысл. Если родители преждевременно привлекут внимание сына или дочери к следующему сюжету, это может уничтожить влияние предыдущего; если же сделать это позже, влияние может усилиться.
Когда сказки читаются детям на занятиях или в библиотеках, слушатели выглядят заинтересованными. Но зачастую им не дают шансов обдумать прочитанное или отреагировать как-то иначе: либо их всех скопом ведут заниматься чем-то другим, либо им рассказывают новую историю, не похожую на предыдущую, и тем самым впечатление от предыдущей сказки рассеивается или уничтожается. Читали детям сказку или не читали, разницы нет – к такому выводу можно прийти, пообщавшись с ними после этого. А теперь представьте, что рассказчик дает детям достаточно времени поразмыслить над сказкой, полностью погрузиться в ее атмосферу, проникнуться настроением, возникшим в те минуты, когда они ее слушали, и поддерживает их желание поболтать о ней. В этом случае беседа с детьми убеждает, что сказка дала очень многое (по крайней мере, некоторым из них) как в эмоциональном, так и в интеллектуальном отношении.
Индийские врачеватели просят поразмыслить над сказкой своих больных, чтобы те смогли найти выход из внутреннего мрака, окутывающего их сознание; подобным же образом и дитя должно получить возможность «присвоить» сказку не торопясь, порождая и развивая собственные ассоциации насчет нее.
Между прочим, здесь кроется причина того, почему иллюстрированные сборники сказок, пользующиеся таким успехом в наши дни как у детей, так и у взрослых, удовлетворяют нуждам ребенка не самым лучшим образом. Иллюстрации не так уж полезны – скорее они отвлекают. Исследования обучения чтению с использованием иллюстрированных изданий показывают, что картинки скорее рассеивают внимание, нежели способствуют учению, поскольку не дают ребенку понять сказку на его собственный лад и направляют его переживания в иное русло. Читая книжку с картинками, ребенок оказывается в значительной мере обделен в отношении личностного смысла, носителем которого могла бы стать для него сказка, по сравнению с тем читателем, кто ориентируется на собственные ассоциации, а не на ассоциации художника[31].
Толкин также пишет: «Как бы ни были хороши иллюстрации сами по себе, они не могут сослужить доброй службы сказкам… Если в сказке говорится: “Он вскарабкался на холм и увидал внизу, в долине, реку”, иллюстратор может схватить точный (или почти точный) образ подобной сцены, возникший у него. Но у каждого, кто услышит эти слова, сложится собственная картина из [образов] всех холмов, рек и долин, которые когда бы то ни было попадались ему на глаза. И важнее всего окажутся тот Холм, та Река и та Долина, что стали для него первым [в жизни] воплощением [смысла] этого слова»[32],[33]. Вот почему сказка в значительной мере утрачивает смысл, касающийся лично меня, когда персонажи и события облекаются в форму, придуманную не мной, а иллюстратором. Слушая или читая сказку, мы рисуем себе происходящее, используя уникальные подробности, взятые из собственной жизни, и благодаря этому она во многом приобретает для нас качество личного опыта. И взрослые, и дети зачастую предпочитают, чтобы кто-нибудь другой выполнил сложную задачу, вообразив себе сцену из сказки. Но если мы отдадим иллюстратору на откуп работу, которую должно выполнять наше воображение, то оно в какой-то мере перестанет быть нашим, а сказка во многом утратит личностный смысл.
К примеру, поинтересовавшись у детей, как выглядит чудовище, о котором они услышали в сказке, мы обнаружим самые разнообразные варианты: гигантские фигуры, напоминающие человека; образы, сходные с животными или сочетающие в себе черты животных и людей и так далее. Каждая подробность будет иметь весьма существенный смысл для того, перед чьим внутренним взором возникло это (именно это, а не иное) образное воплощение. С другой стороны, если мы видим конкретный образ чудовища, нарисованный художником и соответствующий тому, что вообразил себе он (насколько же этот образ более полон по сравнению со сложившимся у нас смутным изменчивым образом!), мы оказываемся обделены, лишены этого смысла. Идея, вложенная художником в изображение чудовища, может оставить нас равнодушными. Мы также можем не увидеть в ней ничего важного для себя или же ощутить испуг. Однако тревогой дело и ограничится, и мы не обнаружим за ней никаких скрытых смыслов.
22
Описание анимистического мышления цитируется по статье Рут Бенедикт [Encyclopedia of the Social Sciences (New York: Macmillan, 1948).].
23
О различных стадиях анимистического мышления ребенка и о его господстве вплоть до двенадцати лет см.: Jean Piaget, The Child’s Concept of the World (New York: Harcourt, Brace, 1929) [Краткое изложение содержания этой работы см. в издании: Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже. М., 1967. С. 366–372. Благодарю за консультацию Г. В. Бурменскую.].
24
Асбьёрнсен П. К. На восток от солнца, на запад от луны. Норвежские сказки и предания. Пересказала для детей А. Любарская. Петрозаводск, 1987. Прим. пер.
25
«На восток от солнца, на запад от луны» – норвежская сказка. Перевод на английский язык можно найти в Andrew Lang, The Blue Fairy Book (London: Longmans, Green, c. 1889).
26
«Красавица и Чудовище» – очень старая сказка. Версии ее весьма разнообразны. Среди наиболее известных – вариант мадам Лепранс де Бомон в Iona and Peter Opie, The Classic Fairy Tales (London: Oxford University Press, 1974). «Королевич-лягушка» входит в сборник сказок братьев Гримм.
27
Обобщение теорий Пиаже можно найти в работе: J. H. Flavell, The Develpmental Psychology of Jean Piaget (Princeton: Princeton University Press, 1955) [Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже. М., 1967.].
28
Дискуссию по поводу богини Нут см. в Erich Neumann, The Great Mother (Princeton: Princeton University Press, 1955). «Как небесный свод, она осеняет свои создания на земле подобно тому, как курица покрывает крыльями цыплят». Изображение богини можно увидеть на крышке египетского саркофага Уреш-Нофера (XXX династия) в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
29
«Акт познания включает в себя оценку, личностный коэффициент, который помогает оформлению знания любых фактов», – пишет Майкл Полани. Если крупнейший ученый вынужден в значительной мере опираться на «личностное знание», то представляется очевидным, что дети не смогут добывать знания, имеющие для них подлинное значение, если прежде не «оформили» их, введя «личностные коэффициенты» [См.: Полани М. Личностное знание. М., 1985.].
30
В этом отношении сказки можно опять-таки сравнить со сновидениями, хотя и с величайшей осторожностью и множеством оговорок, поскольку сновидение является высшей формой выражения индивидуального бессознательного, тогда как волшебная сказка есть форма, которая создана при участии воображения и в которую облекаются проблемы, имеющие более или менее универсальный характер, и получившаяся история передается из поколения в поколение. Вряд ли сновидение, содержание которого выходит за пределы наиболее простых фантазий, направленных на исполнение желаний, удастся понять с первого раза. Сновидения, являющиеся результатом сложных внутренних процессов, нужно обдумать множество раз, прежде чем вы придете к пониманию их скрытого смысла. Требуется частое погружение в неторопливые раздумья над всеми элементами сновидения и изменение их порядка по сравнению с первоначальным, иная расстановка акцентов и многое другое, чтобы обнаружить глубокий смысл в том, что на первый взгляд казалось бессмысленным или примитивным. Лишь по мере того как вы обдумываете все тот же материал, вы начинаете видеть в деталях, казавшихся попросту отвлекающими от главного, бессмысленными, невозможными или лишенными смысла по иным причинам, важные подсказки, позволяющие осознать, что же значил ваш сон. Этот путь избрал Фрейд, прибегнув к помощи сказок, дабы прояснить содержание сновидений Человека-волка.
В психоанализе свободные ассоциации представляют собой одну из возможностей добыть дополнительные подсказки насчет того, что может означать та или иная деталь. Чтобы сказка обрела для ребенка значение в полной мере, его ассоциации также необходимы. Отсюда следует, что другие истории обеспечивают дополнительный материал для его фантазий, а это, в свою очередь, углубляет их смысл для ребенка.
31
Мне не известно ни одного исследования, посвященного тому, насколько иллюстрации к сказкам рассеивают внимание читателя, однако этому факту имеется множество подтверждений на примерах других текстов. См., например, S. J. Samuels, “Attention Process in Reading: The Effect of Pictures on the Acquisition of Reading Responses,” Journal of Educational Psychology, vol. 58 (1967) и его обзор множества других исследований этой проблемы: “Effects of Pictures on Learning to Read, Comprehension, and Attitude,” Review of Educational Research, vol. 40 (1970).
32
Пер. С. Кошелева, И. Тогоевой. Цит. по изд.: Толкин Дж. Р. Р. О волшебных сказках // Толкин Дж. Р. Р. Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки. М., 1991. С. 247–296. Прим. пер.
33
J. R. R. Tolkien, Tree and Leaf (Boston: Houghton Mifflin, 1965).