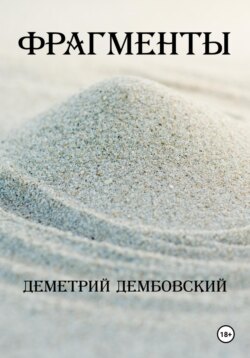Читать книгу Фрагменты - Деметрий Дембовский - Страница 3
Апсара
ОглавлениеАнтология восточной женщины.
В индуистской мифологии апсары, наделенные ярко выраженной сексуальной и эстетической функцией, играют значительную роль, как, например, гетеры или гейши в реальной истории древней Греции и Японии. Они отличаются необыкновенной красотой, любвеобильностью и великим разнообразием иных совершенных качеств, которые должны были сулить мужчинам сладчайшие радости любви. Эти небесные куртизанки соблазняли богов, мудрецов и аскетов; и были реальны на столько, на сколько может быть реален психологический архетип. По крайней мере, очевидна потребность в их наличии. Не зря же мы встречаем практически в любой мифологии, особенно земледельческой, подобных любвеобильных дев, несущих, также, нагрузку богинь плодородия. Даже суровое в половом отношении христианство не пренебрегло этим образом. Правда, оно присвоило ему статус чертовщины, назвав суккубами (succubus, от лат. succubare, «ложиться под») демонов, которым приписывалось совращение мужчин, особенно отшельников и святых. Впрочем, для последних было весьма соблазнительно назвать суккубом ту или иную крестьянку, прелести которой этой ночью ввели их в искушение (Боккаччо «Декамерон» 1,4; 3,10). Ведьмы также стали сказочными героинями и историческими жертвами инквизиции, которая хоть как-то стремилась понизить интенсивность данного архетипа, истребляя красивых, своевольных, склонных к нимфомании женщин.
В фольклоре европейского средневековья часто можно было встретить идиллические сцены с пастухами и пастушками. Символическая близость к природе, к её дозволенным, естественным инстинктам, крестьянская простота нравов, возрождают античные образы весёлой и спокойной любви. Прекрасные, юные пастухи здесь выполняют функции сатиров и гандхарвов, а прелестные пастушки, соответственно, нимф и апсар. Даже на такой неплодородной почве ростки человеческого желания все-таки пробивались к солнцу.
Сюда же можно отнести и многие литературные сюжеты; в частности, тот, где женщина проводит ночь с неизвестным мужчиной (несчастливым влюбленным, хитростью подстроившим встречу и т. д.), думая, что это её муж. Обман, по сути, не возможный, создает впечатление документальной хроники, хотя не подвергаемая сомнению гротескность сюжета выдает его архетипическим корни («ночная женщина» здесь лишается всех органов чувств, превращается в абсолютный образ покорной, сладострастной апсары).
География данного архетипа огромна: в славянской мифологии эту функцию выполняли русалки и вилы. Последние были тоже водными духами, но в отличие от русалок, имели крылья и козьи (ослиные) ноги. Если отнять у вил крылья, то они становились простыми девушками; тем же, кто сорвет с них волшебные платья, они полностью подчинялись. В мифологии чувашей водяной дух вуташ, в виде прекрасной девушки, приносила мужчине, согласившемуся стать её возлюбленным, деньги.
В западноевропейской мифологии этими функциями обладали ундины. Как и русалки, они завлекали путников вглубь воды, где делали их своими возлюбленными. Они были способны обрести бессмертную человеческую душу, полюбив и родив ребенка на земле. В иудаизме мы встречаемся с «дочерьми Каина», соблазнившими праведных сыновей Сифа, которые несут ту же архетипическую нагрузку. В мусульманской джанне и германо-скандинавской вальхалле праведникам и доблестным войнам прислуживают прекрасные гурии и валькирии. В представлениях южноамериканских индейцев народностей тоба и каража, звезды – это небесные женщины, время от времени спускающиеся на землю, чтобы вступить в любовную связь с живущими там мужчинами. (Достаточно популярный сюжет в современной фантастике, когда женщины-инопланетянки специально прилетают на землю, чтобы забеременеть от мужчин-землян.)
Архетип прекрасной, покорной женщины, которую мужчина волен создать и уничтожить по своему желанию, очевидно, имеет не совсем древние корни, и возник наряду с эндогамией в ходе развития патриархальных общественных отношений. Только по мере значительного увеличения сексуальных запретов психологическая интенсивность этого архетипа начинает возрастать. Образ духа, живущего рядом с тобой, но невидимого окружающим, открывающего тебе тайную мудрость, да еще, к тому же, обольстительного и сладострастного, позволяет более комфортно чувствовать себя в мире, где прежняя сексуальная свобода значительно ограничена. Однако осознание этого комфорта порождает чувство вины и искажение данного архетипа, накладывая на него амбивалентные слои опасности, безобразности, враждебности этих духов. Например, в мифологии тюркоязычных народов эквивалентом апсары можно считать албасты, которая изображается старой, уродливой женщиной с закинутыми за плечи грудями, что, впрочем, не мешало тувинским охотникам пользоваться её дарами и расположением. Албасты, как и русалки, серены, ведьмы, менады, лилит, и т. п., могли быть опасны для человека именно в силу вины собственных непристойных желаний, идущих вразрез социальных табу и грозящих наказанием со стороны последних. Например, соблазненный апсарой аскет рисковал прервать свое подвижничество и навсегда забыть о жизни среди богов.