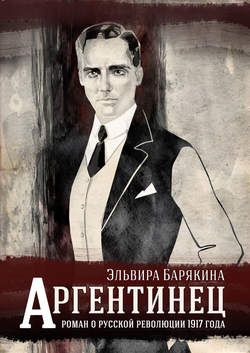Читать книгу Аргентинец - Эльвира Барякина - Страница 5
Глава 5
Неравный брак
Оглавление1.
Когда свершилась Февральская революция, Жора Купин вместе с толпой полетел к острогу освобождать политических заключенных. Он срывал орлов с казенных вывесок и кричал: «Вот кому жареное крылышко?! Налетай-разбирай!» Свобода пьянила; нет больше царя – да здравствует светлое будущее!
Старшие классы Первой губернской мужской гимназии поделились на партийные группировки: кадетские, эсерские, монархистские… Спорили до хрипоты, иногда до драки… На каникулы Жора ушел с тоскливым ощущением даром потраченного времени. Мальчишки и педагоги обустраивали Россию и весь свет, и в результате всякая учеба в гимназии прекратилась.
В следующем году Жора собирался наверстать упущенное и потому все лето упорно занимался, удивляя домашних самодисциплиной. Он метил высоко и мечтал о дипломатической карьере. Само время подталкивало к этому выбору: Жора верил, что если бы послы всех держав сумели договориться, никакой войны не было.
Он считался первым учеником по истории и иностранным языкам, читал философов, от Аристотеля до Ницше, и все искал свои будущие идеалы, которым можно отдаться без остатка.
Революцию он больше не поддерживал: уличные ораторы говорили, что в ее пламени сгорят социальные пороки, а на деле оказалось, что никакое это не пламя, а серная кислота, которую выплеснули на Россию и обезобразили ее до неузнаваемости.
Вместе с политическими заключенными из тюрем вышло около тысячи уголовников: их еще в начале войны перевели в Нижний Новгород из Варшавы, чтобы они не взбунтовались в пользу немцев. Воры и убийцы растеклись по губернии. Полицию в бунтарском угаре уничтожили – жалуйся, кому хочешь.
Бессмысленная война продолжалась, патриотизм стал ругательным словом… Революционеры отвергали само понятие Российского государства – как будто не было десяти веков свершений и постепенного роста от захудалого княжества до одной из величайших стран мира.
Пока Жоре больше всего нравилась идея, вычитанная у Якоба Буркхардта:[8] государство надо рассматривать как произведение искусства – рассчитанное и продуманное творение. Но сколь далека была эта прекрасная идея от того, что творилось вокруг!
Учиться! Жора обкладывался монографиями и справочниками, гнал себя, будто боялся опоздать, быть неготовым к чему-то серьезному и важному. Он жил в предчувствии, что после хаоса Февральской революции должна наступить другая эпоха – и тогда как раз потребуются люди, способные служить своей стране не абы как, а с глубоким пониманием.
Единственное, что останавливало Жору, это бедность – у его сестры не было денег на дорогие книги, и ему приходилось копить, подрабатывая где только можно: репетиторством и сочинением стихотворных поздравлений и эпитафий.
2.
Ночью Нине опять снились кошмары. Она вышла к завтраку неприбранная, в шелковом капоте, распадающемся на груди. Налила себе чаю, долго размешивала его ложечкой, хотя сахара не положила.
– Скорее всего, мы потеряем этот дом, – произнесла она наконец.
Жора молчал. Слышно было, как в углу тикали большие старинные часы с эмалевым, покрытым мелкими трещинами циферблатом.
Жора знал, что Нина голову сломала, думая, как быть с прокурорским наследником. Дядя Гриша первым случайно встретил его на пароходе; как приехал, сразу бросился к Нине:
– Иди к нему! Он так по дому соскучился, что на радостях может дать тебе отсрочку.
Нина отправилась на Ильинку, но быстро вернулась, пунцовая от возмущения.
– Он оскорбил тебя? – с тревогой допытывался Жора.
Она не хотела сознаваться, но потом все-таки сказала, что Рогов принял ее за горничную.
– Все равно поговори с ним! – настаивал дядя Гриша. – А если наследник заберет дом, то и бог с ним. Пока война не кончится, будете жить у меня в Осинках. Не бойтесь, по миру не пойдете.
Жора с тоской прислушивался к его словам. Как жить в деревне, если надо заканчивать гимназию? Готовиться к университету? Как можно уехать, если тут – Елена Багрова?
– А что, если у Матвея Львовича попросить в долг? – спросил Жора, прекрасно понимая, что уж этот вариант Нина обдумала в первую очередь.
– Фомин не может вынуть из кармана двадцать семь тысяч. У него деньги не в сундуках лежат: все вложено в акции, в предприятия. В любом случае, Матвей Львович уехал в Петроград.
– А если с Еленкиным отцом потолковать?
– Смеешься?
Елена Багрова была из семьи пароходчика-старообрядца: влезать к ее отцу в неоплатные долги – значит навсегда потерять надежду жениться на ней.
Нине с Жорой не полагалось ни особняка, ни университетов, ни богатства. Брак мещаночки Купиной и графа Одинцова был ошибкой природы, божественным недосмотром. Она изо всех сил пыталась выбиться в люди, чтобы не повторить дурной судьбы родителей, но жизнь несла ее по проложенным рельсам, с которых если и сойдешь, то только под откос.
Не будь Нина такой умной и деловитой, все рухнуло бы намного раньше. В девятнадцать лет ей пришлось заняться умирающим заводом в Осинках, продавать лес под вырубку, спорить о ценах на лен, договариваться с мужиками о найме баржи… Дядя Гриша помогал, чем мог, но у него было не сто рук.
– Я уезжаю в деревню, – сказала Нина. – Варенье надо варить… Дядя Гриша сказал, что у них яблоки некуда девать.
– Что ж, без тебя не справятся? – удивился Жора.
Нина не ответила. Обвела взглядом шкапы с вырезанными на дубовых панелях гончими. За стеклянными дверцами хранилась коллекция севрского фарфора, собранная дедом Одинцова. Весь дом на Гребешке был наполнен произведениями искусства, и Нина с Жорой безумно любили его. Все здесь создавалось чужими руками, чужим вкусом и попало к ним случайно – тем страшнее было растратить эту красоту. Отсюда нелепость последних лет: они жили среди вещей музейного порядка, но при этом были бедны, как мыши.
– Будем привыкать к мысли, что все кончено… – вздохнула Нина.
У нее что-то случилось, но Жора понимал, что пока не нужно приставать с расспросами. Подошел к ней, положил руку на плечо:
– У меня в четверг капустник в театре, а потом мы с Еленой к тебе приедем. Хорошо?
Нина кивнула.
– Поищи что-нибудь дяди-Гришиным детям в подарок. А то неудобно с пустыми руками ехать.
Деревенские кузены радовались любому пустяку – раскрашенным открыткам, коробке из-под пудры, сломанным очкам: настоящие подарки им давно уже никто не дарил.
3.
Из окон белого особняка на Гребешке открывался вид с высоты птичьего полета – на сияющую Оку, на пестрые кварталы Ярмарки.
Жора помнил, как впервые попал в этот дом. Нина вся светилась, показывая брату и то, и это, а он шалел от восторга и от того, что граф Одинцов запросто разговаривает с ним и даже угощает шоколадными конфетами.
Когда они с мамой возвращались к себе на Ковалиху, она все качала головой:
– Надо знать свое место.
Но потом и мама привыкла к тому, что Нина стала настоящей барыней. Жора чуть ли не каждый день бывал в гостях у сестры и сидел, пока было возможно. Володя возился с ним, показывал на карте Францию – они с Ниной собирались туда на медовый месяц. Жора не до конца верил, что Париж – это действительно город, а не летний ресторан на Ярмарке, и что обычные люди, вроде его сестры, могут путешествовать в вагоне первого класса.
Жора перебрался на Гребешок, когда Нина вздумала отправить мать в Баден-Баден: у мамы побаливала поясница, и доктор посоветовал ей съездить на источники. Нине хотелось, чтобы все было по высшему разряду: она заказала номер в гостинице и даже оплатила билет компаньонке, которая знала немецкий язык. Сама Нина поехать не могла – она была беременна.
Через месяц началась война. Русские курортники с превеликим трудом возвращались домой через Швецию; многих арестовали по подозрению в шпионаже и помощи врагу. Мама не вернулась. Два года спустя какой-то человек прислал письмо: «Госпожа Купина скончалась в Баден-Бадене. Примите мои соболезнования».
Жора первым узнал об этом. Целый день сидел пришибленный, не зная, как теперь жить, как рассказать обо всем сестре. В день, когда прислали известие о смерти Одинцова, у Нины случился выкидыш. Она так долго болела, что Жора боялся – ей не выкарабкаться. Старая графиня, вместо того чтобы помогать, бросила ей в лицо:
– Я надеялась, что Владимир оставит мне хотя бы внука. А он оставил мне вас…
Когда Нине сказали о смерти матери, она прошептала дрогнувшими губами:
– А нам вместо мамы оставили Софью Карловну.
Графиня жила в своей половине вместе с красивой и злой приживалкой, которую Жора называл не Юлия Спиридоновна, а Фурия Скипидаровна. Обитатели левого и правого крыла дома старались не попадаться друг другу на глаза – им даже готовили по отдельности. Но это не мешало графине раз в месяц приходить к Нине за деньгами.
– Почему ты ей во всем потакаешь? – сердился Жора. – У нас и так каждый рубль на счету, а она требует, чтобы ты делала взносы в ее Дамский комитет!
– Софья Карловна – мать моего мужа, – тихо говорила Нина.
Она не могла забыть Володю. У Жоры было будущее, Елена Багрова и мечты о карьере дипломата… У Нины не было ничего, кроме обязательств, которые она сама взвалила на себя.
Дяди-Гришиным детям было решено подарить мамину коробку с пуговицами. Когда-то Жора играл ими вместо солдатиков, и на полу в швейной мастерской Купиных разыгрывались целые сражения. Большая черная пуговица-генерал была от маминого пальто; офицеры – белые, обтянутые шелком бусинки – от сестринской блузки; серебристая пуговица с якорем – капитан броненосца «Наша победа». В коробке, как в фотоальбоме, хранилась вся история семьи – одежда снашивалась, а пуговицы оставались. Теперь ее можно было передать младшему поколению.
Нинин багаж уместился в одной корзинке. Она отсчитала брату сто рублей керенками, новыми деньгами, введенными Временным правительством:
– Это вам на расходы.
Жора смотрел на мятые фантики. В дурацкой виньетке слова: «Подделка преследуется законом». Каким, интересно? Разве что законом подлости – никаких других законов в России не осталось.
4.
Софья Карловна считала своего сына ренегатом: он женился на девушке из низшего сословия и пренебрег всем, что внушала ему мать.
Собственное хорошее воспитание не позволяло Софье Карловне в открытую признавать ошибку сына, поэтому она пыталась привить Нине хотя бы основы:
– Вы же закончили Мариинскую гимназию – неужели там не научили вас, что дама из общества не должна сидеть в гостях нога на ногу?
Нине хотелось послать ее к черту, но она робела перед свекровью. Софья Карловна в свои шестьдесят лет имела такую осанку, такой вкус и такое чувство собственного достоинства, что спорить с ней было немыслимо.
Разница между ними была слишком огромной: старая графиня была наполовину француженкой и вела родословную с десятого века от герцогов Бургундских, а Нина не знала, как зовут ее прабабку. Она являлась для свекрови обломком неприглядного грубого сословия, с которым Софья Карловна не хотела иметь ничего общего.
Ее требования часто казались Нине нелепыми:
«Дама не имеет права сама, без помощи кавалера, пересекать бальную залу. Ведь она может подскользнуться на навощенном полу и упасть». Как будто кавалер не может!
«Во время званного обеда нельзя прислоняться к спинке стула». А зачем тогда вообще делают спинки?
Однажды Нина подслушала, как графиня жаловалась на нее Фурии Скипидаровне:
– Я не могу спокойно смотреть на эту женщину. У нее чувство меры, как у голодного папуаса: она готова украшаться с головы до ног; в ресторане всегда заказывает самое дорогое блюдо…
– Ей надо продемонстрировать, что она разбогатела, – снисходительно вздохнула Фурия Скипидаровна.
– Вчера ее пригласили к княгине Анне Евгеньевне, и она надела тиару! Она не понимает, что головные украшения с камнями и перьями уместны только на балу. Впрочем, что можно требовать от бедняжки, если ее покойный папенька был портной?
Нина не выдержала.
– А мне плевать на ваши глупые правила! – крикнула она, входя в комнату. – Я буду одеваться так, как мне нравится! И вести себя буду так, как мне удобно!
Графиня смерила ее ледяным взглядом:
– Во-первых, не кричите – это дурной тон. Во-вторых, зарубите себе на носу: подслушивают под дверью только лакеи и камеристки. А в-третьих, подумайте вот над чем: умение держать себя – это особый язык, так вы сообщаете людям, кто вы. Если вы пожимаете руку мужчине, который не снимает перчатки, как это случилось третьего дня, вы тем самым показываете, что видите в себе прислугу, нарядившуюся в барынино платье.
Она была права, но пока был жив Володя, Нина не особо обращала внимание на свекровь. Пусть Софья Карловна и ее подруги говорят все что угодно, но граф Одинцов любил Нину такой, какая она есть.
Он совсем не походил на мать: ему не надо было убеждать себя в собственной исключительности. Володя называл светские обряды «шуршанием» и предпочитал компанию земских деятелей; он вечно хлопотал за кого-то и что-то устраивал – то сельскую больничку, то школу. Он был исключительно добр, благороден и честен. Ему нравилось баловать Нину, показывать ей миры, о существовании которых она не подозревала.
То, что она жадно тянулась к символам высшего общества, веселило его: «Это пройдет». Нина не верила: для нее высокая культура Володи была прямым следствием аристократизма его матери. Чтобы взрастить такого человека, требовались традиции и усилия нескольких поколений. Нина очень хотела походить на него, но сколько она ни билась – она не могла придать себе то, что свекровь называла «породой».
Первый год вдовства дался ей очень тяжело. После смерти Володи его друзья и родственники уже не приглашали Нину в гости, все словно сговорились, чтобы показать ей: без мужа она никого не интересует. К страшному горю и денежным трудностям прибавилось острое ощущение своей неполноценности и невежества: до конца дней не забыть позора, когда она во время заседания Дамского комитета перепутала Ренессанс с реверансом. Софья Карловна была в отчаянии.
Нина принялась латать прорехи в своем бестолковом гимназическом образовании: она много читала, делала все, чтобы превратить себя в настоящую даму. Жора, попавший на Гребешок в тринадцатилетнем возрасте, очень быстро освоился там и уже не чувствовал никакой связи с ковалихинскими лопухами и заборами, а Нине вечно мерещилось, что люди смотрят на нее с осуждением: «Ну куда ты лезешь в калашный ряд?»
Она была вынуждена заниматься поместьем и заводом в Осинках, и это сметало с нее тщательно наращиваемую позолоту. Деньги – это пошло, хозяйственные дела – это вотчина пропахших луком и псиной управляющих, которых не пускают дальше людской. Настоящая дама никогда не унизится до того, чтобы торговаться или считать копейки. Нина все это понимала, но в семье кто-то должен быть «вульгарным», чтобы остальные не пошли по миру.
Ей было одиноко. Нина хотела умных размышлений, интересных рассказов, особой атмосферы тепла и понимания, которой окружал ее Володя. У Жоры была своя компания – юные поэты и артисты, а Нине некуда было податься: к литераторам и актерам без таланта не пойдешь, а быть просто поклонницей она не собиралась. Аристократы ее не принимали, а торговцев не принимала она – нижегородское купечество на всю Россию славилось загулами и страстью к куражу, когда ради пьяного спора губили пароходы и тратили тысячи рублей на хористку из кафешантана, чтобы через месяц выгнать ее с фонарем под глазом. Это были те же плебеи, только побогаче. Особняком стояли купцы-старообрядцы, но у них вся жизнь была подчинена истовой вере.
Нина бывала у Любочки на четверговых собраниях – пыталась хоть там найти себе место. Однако буйные застольные речи о политике не увлекали ее. Она уже сама не знала, то ли ей белый свет стал не мил после гибели мужа, то ли по сравнению с Володей губернская интеллигенция и вправду выглядела не блестяще.
Любочка была единственным другом Нины. Ее личная жизнь тоже не складывалась: Саблин думал, что, если прятаться от проблемы, она исчезнет сама по себе. Все жалобы супруги – это выдумки, и ей лучше занять себя полезным делом.
Нина с ужасом слушала рассказы Любочки о том, как она пыталась соблазнить Саблина, сидевшего за микроскопом: нарядилась, вошла к нему в расстегнутой кружевной кофте.
– Иди быстрей ко мне! – позвал ее муж. – Ты только посмотри, число бактерий возросло вдвое!
Он не разбирал намеков и мог перебить Любочку посреди признания в любви и спросить, что будет на обед. Даже когда она клала его руку себе на грудь, он в первую очередь интересовался ее сердцебиением.
– Ты знаешь, я непременно заведу любовника, – шептала Любочка. Брови ее хмурились, глаза смотрели дерзко и зло. – Я хожу по улицам и приглядываюсь: «Нет, не этот, не этот…» Ищу его… Саблина не изменишь, а я не могу представить, что всё, приехали – ничего лучше не будет.
Любочка говорила, что ночами в подробностях представляет измену с этим пока еще неведомым мужчиной, а потом прижимается в темноте к Саблину, чтобы добавить в свои мечты чуть-чуть реальности.
Неудачный брак, который немыслимо расторгнуть: куда уйти? К отцу? Пересесть с одной шеи на другую и получить в довесок взрыв сплетен и негодования?
Саблина было жалко: он нравился Нине, но при этом она не могла понять – как можно быть таким бестолковым? Ведь если Любочка бросит его, он с ума сойдет. И тем не менее доктор – вежливый, умный, ответственный – упорно пилил сук, на котором сидел.
– Ты все еще любишь его? – как-то спросила Нина.
Она вздохнула:
– Раньше очень любила. Теперь не знаю. Когда он рядом со мной и опять ничего не выходит, мне хочется убить его.
А Нина о мужчинах вовсе не думала. Дело было не в предательстве памяти Володи, а в инстинкте: мужчина мог причинить боль – настолько страшную, что от нее меркло сознание. Легче раз и навсегда решить: «Мне это не надо», и если подставлять себя кому-то, вроде Матвея Львовича, то с полным равнодушием.
5.
Нина и Любочка вместе думали, как быть с векселем, который унаследовал Клим Рогов. Любочка предложила выкрасть его. Она подметила, что наследник раззява и раскидывает вещи где ни попадя: стащить у него ключ от сейфа – пара пустяков. Нина понимала, что все это ерунда, но стремление подруги помочь – даже ценой преступления – радовало ее.
– Расскажи мне о Климе, – просила Нина. – Что он за человек?
Любочка терпеть его не могла, но ради приличий вела себя как радушная кузина.
– Основная черта Клима – безалаберность, – говорила она. – Он обаятельный, прекрасно знает себе цену, но он быстро загорается и так же быстро остывает. Для женщин это самый худший вариант. А если ты упрекнешь его в бессердечии, он только руками разведет: «Ну я же не хотел… Я просто не подумал…»
Когда Любочка обмолвилась, что пойдет с Климом в «Восточный базар», Нина решила, что встретит их там и все-таки попытается выпросить отсрочку. Она надела парижское платье, которое Володя когда-то купил ей на Rue de la Paix,[9] уложила волосы, надушилась духами.
«Сами подумайте: дом вам не продать, а пустите жильцов – они все там разнесут», – проигрывала она в уме будущий разговор.
У нее не было разумных причин для того, чтобы просить об отсрочке, – она могла рассчитывать только на симпатию и великодушие. Хотя какая уж там симпатия, если Рогов с первого взгляда понял, что Нина за птица? Она ужасно его боялась – он богатый, избалованный вниманием иностранец: что ему ее беды?
Придя в «Восточный базар», Нина долго издали наблюдала за Роговым. Как она завидовала Любочкиной способности легко сходиться с людьми! Та и минуты бы не потратила на стеснительность: взяла бы и познакомилась… Тянуть дальше было невозможно, и Нина пошла к ним, как идут к зубному врачу, мечтая лишь о том, чтобы все поскорее кончилось.
Оркестр заиграл танго. Это спасение: не надо ни о чем говорить хотя бы несколько минут. Но Нина не ожидала, что в Аргентине танцуют, тесно прижавшись друг к другу, – немыслимое нарушение границ! Она поглядывала на Рогова исподлобья, но была так занята своими страхами, что ничего не поняла: как он отнесся к ней? Что подумал? Был ли у нее хоть какой-то шанс добиться своего?
Матвей Львович явился вовремя и прекратил это издевательство. Видит бог, Нина не хотела просить у него денег, чтобы еще больше не связывать себя неблагодарностью. Но другого выхода не было.
6.
Волна под колесом фильянчика забурлила, из трубы повалил черный дым, и пароход быстро пошел к устью Оки. На том берегу уже готовились к закрытию Ярмарки. На пристанях доторговывали мелкие оптовики, по сходням бегали босоногие грузчики – дочерна загорелые, с лоснящимися от пота спинами. Деревенские ребята с корзинками и мешками подбирали щепки, тряпки и всякую мелочь, оставшуюся от распродаж.
Нина смотрела из-под ладони на причудливые шатры. В этом году Ярмарка была очень плоха: Матвей Львович сказал, что больше половины лавок стояли закрытыми. А что будет в следующем году, даже представить страшно. Ярмарка – сердце города. Пропадет она – и Нижний Новгород захиреет, превратится из всероссийского торжища в провинциальное захолустье.
Слышался стук молотков; рабочие заколачивали окна и двери – когда Нина вернется, это уже будет мертвый город. Семьсот десятин улиц, пассажи, храмы, театры, подземные галереи – все это действовало два месяца в году. Зимой Ярмарку заносило снегом – только сторожа ходили по едва приметным тропам.
Раньше отец с дядей Гришей каждый год снимали лавку на Модной линии и торговали тканями. Базиль Купин был гордостью и легендой Ярмарки. К нему ходили, чтобы посмотреть на его смоляные кудри, на умопомрачительные усики и серебряные часы с боем. Дождавшись богатых покупательниц, он ловко снимал с полок рулоны, кидал их на прилавок так, что подскакивали ножницы и коробка с мелками. Разматывал, показывал на свет воздушные шелка, сияющую парчу и нежный бархат. Дамы ахали, когда отец приказывал им «приложить матерьяльчик» и деликатно поправлял складки на пышных купеческих грудях.
– Шарман, – выдыхал он страстно и начинал врать, что сейчас продаст отрез себе в убыток, потому что сил нет смотреть на такую красоту. – Убью себя, ей-богу, если отпущу вашу милость с пустыми ручками.
С другой стороны лавки дядя Гриша бойко отмерял аршином ситцы. Он и вполовину не был так пригож, как Базиль, но и у него товар не залеживался. Деревенские девушки обступали его:
– Не натягивай, Григорь Платоныч! Побойся Бога! Ты по чести меряй!
Дядя Гриша бил себя в грудь, таращил глаза и кричал, что нисколько не натягивает, провалиться ему на месте. Маленькая Нина все ждала, когда доски под его ногами разъедутся и дядя Гриша рухнет под пол. Когда покупательницы уходили, он поднимал Нину под мышки и, хохоча, подбрасывал к потолку:
– Ах ты, племяшечка моя!
– Не трожь ребенка! – сердилась мама и пыталась отобрать Нину.
В кармане ее передника хранилась тетрадка с заказами на пошив платьев. Отец умел так обольстить богатеек, что они забывали о модных портных с Большой Покровской и записывались к ясноглазому Базилю.
Вечером отец с дядей Гришей шли в трактир на Самокатной площади, набирались и ехали домой, горланя песни.
– Я хоть и без ниверситета, а всему обучен и обхождение тонкое знаю! – кричал отец, размахивая картузом. – Гришка что в трактире заказывает? Пиво! Тьфу! А мне подавай бутылку лафита! У меня в предках французы были, и я сам чего хочешь могу по-французски сказать: хоть «пардон», хоть «мерси».
– Врешь! – хохотал дядя Гриша. – Мордва у нас с тобой в роду, а не французы. Да мы и мордве рады. А лягушатники нам – плюнуть да растереть.
Пролетка подскакивала на булыжной мостовой, кругом гулял нарядный народ, а в кулаке у Нины были зажаты величайшие сокровища – бархатные обрезки. Куклы ее были знатными дамами, носили платья с пышными рукавами и огромные шляпы с куриными перьями, подобранными на дороге.
7.
Семейство Купиных было шумное, бестолковое и невезучее. Отец хоть и зарабатывал прилично, но все спускал: то в пульку продуется, то купит многоярусную вазу для фруктов – громадную, без верхней тарелочки, которая давно разбилась.
– Хочу, чтобы было как в Париже! – стучал он кулаком по столу.
Ему не хватало красоты, и он создавал ее по мере сил: говорил заказчицам цветистые комплименты, курил тонкие папиросы через костяной мундштук и мазал волосы филиокомом. Когда мама приставала к нему насчет денег, он кричал на всю улицу, что «Эта дура загубила мне молодость, а теперь со свету сжить хочет!».
Ему было томно в Ковалихе. Он листал купленные на Балчуге старые журналы мод и бормотал себе под нос:
– Мулинэ, Филипп и Гастон, Люсьен Лелонг энд Бернард.[10]
Эти слова казались Нине волшебными. Она страстно хотела помочь отцу; сделать так, чтобы он не обижал маму; раз и навсегда вылечить маленького Жору, который постоянно болел… У нее были свои волшебные слова: «Когда я вырасту…»
Отец говорил, что Нина красотка и что ее надо выдать за почтмейстера. Он сажал ее на колени, прижимал к себе и говорил:
– Почтмейстер – это ого что такое! Ты представь: каждый день держать в руках заграничные письма! А некоторые открытки без конвертов посылают – можно все разглядеть и прочесть. Там и про любовь, и про море написано.
– Лишь бы муж не пил, – вздыхала мама.
– А… да пропади ты, холера! – отмахивался Базиль. – Слушай, Нинка, а может, нам тебя за офицера просватать? Видела драгун на параде, а? Каски с орлами, морды геройские…
От отца пахло пережженным утюгом, водкой и конфетами «барбарис».
На Успение его принесли домой в крови. Все бегали с тазами и марлей, Жора ревел, и Нине велели забрать его и не путаться под ногами. Они до вечера просидели на заднем дворе за кадкой с дождевой водой, где была их «пещера». А потом пришла соседка тетя Нюра и шепотом сказала, что Васька-греховодник приволокнулся за барыней и ейный муж проломил ему голову.
Отец умирал долго и мучительно: левая сторона не двигалась, а правую то и дело сотрясали конвульсии. За полгода от змея-обольстителя остались кожа да кости.
– Хоть и сукин сын, а все равно жалко, – вздохнула тетя Нюра, когда ему закрыли глаза. Мама беззвучно плакала в передник.
После смерти отца лавку на Ярмарке уже не снимали. Дядя Гриша устроился на Молитовскую льнопрядильную фабрику и перебрался за реку – виделись с ним редко. Мама шила, но она не умела обходиться с дамами, и заказчики ее были из простых: кому пододеяльник прострочить, кому тужурку перелицевать.
Однажды мама нарядила Нину в лучшее платье и отвела в гости. Перед тем как войти в богатый дом на Осыпной улице, она долго давала указания: как себя вести, как поздороваться и что ответить на вопросы, если их зададут. Наконец она перекрестилась и нажала на кнопку электрического звонка.
Горничная проводила их в большую залу с тремя полукруглыми окнами. Там не было никакой мебели, кроме десятка стульев вдоль стены, а в углу стояло что-то небывалое – огромный золотистый глобус. Он настолько поразил Нину, что она забыла поклониться, когда им навстречу вышла дама в шуршащем атласном платье.
– Как похожа! – сказала она и легонько ущипнула Нину за щеку.
Хозяйка увела маму, и Нина осталась один на один с прекрасным глобусом. Она долго сидела на стуле, потом кружилась по паркету – так, что юбка разлеталась колоколом. Потом разглядывала таинственные буквы на континентах и морских чудовищ, выныривающих из океанов. Роспись на лаковой подставке – трехмачтовые корабли с выгнутыми парусами и длинными развевающимися флагами; резные фигуры великих путешественников поддерживали плоское кольцо, проходящее вдоль экватора.
Нина понимала, что нельзя трогать такую красоту, но искушение было слишком велико. Она тихонько толкнула глобус, и он повернулся с таким страшным, отвратительным скрипом, что Нина в ужасе отскочила, ожидая, что сейчас примчится разгневанная хозяйка. Но все обошлось, будто никто не заметил Нининого преступления.
Домой летели как на крыльях. Мама радовалась тому, что дама обещала устроить Нину в Мариинскую гимназию, причем без всякой оплаты, а Нина была счастлива, что ей удалось прикоснуться к прекрасному и ей ничего за это не было.
Больше она никогда не встречалась с хозяйкой глобуса, а мама запретила выспрашивать, кто эта дама и почему она взялась хлопотать за дочку Базиля Купина.
8
Якоб Буркхардт (1818–1897) – швейцарский философ и историк культуры.
9
Одна из самый фешенебельных улиц Парижа.
10
Molyneux, Philippe et Gaston, Lucien Lelong and Bernard – известные дома мод.