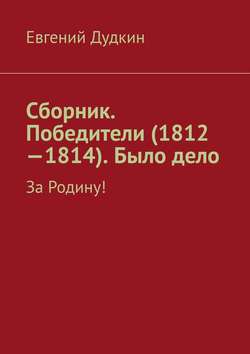Читать книгу Сборник. Победители (1812-1814). Было дело. За Родину! - Евгений Дудкин - Страница 13
Часть 1
КУТУЗОВ
ОглавлениеС первых же недель войны тучи над головой Барклая-де-Толли все более и более сгущались. Генерал Багратион, честолюбивый и действительно превосходный военоначальник, которого выделял сам Наполеон, конечно, был обижен решением императора Александра поручить общее руководство русскими войсками незаметному и уступающему ему ещё недавно в генеральском звании Барклаю-де-Толли. Он понимал, что силы русских и французов несопоставимы и победить захватчиков сейчас шансов почти не было, но обида жгла и толкала на несправедливые заявления в адрес главнокомандующего. Их несправедливость после Бородина признал сам выдающийся генерал в обращении к Барклаю. Но сейчас, Багратион буквально исходил ненавистью. Досталось от него и царю. «По-моему, видно Государю угодно, чтобы вся Россия была занята неприятелем. Думаю, что русский и природный царь должен быть наступательный, а не оборонительный – мне так кажется "– пишет он московскому губернатору Ростопчину, после того как узнал от Барклая, что отступление санкционировано Александром.
На Барклая клеветали флигель-адьютанты императора шляхтичи Потоцкий, Любомирский, Браницкий, брат царя-великий князь Константин и его окружение. Даже начальник штаба армии Барклая генерал Ермолов, прекрасно понимая критическое положение наших войск, интриговал за его спиной и вливал в поток несправедливых обвинений свою порцию желчи. При этом у каждого был свой резон. Багратион считал вправе занять место Барклая, шляхтичи не были бы таковыми, если бы не гадили России, Константин слишком доверял своему окружению, а Ермолов, умный и храбрый генерал, горячий патриот своей Родины (» Никогда неразлучно со мной чувство, что Я – Россиянин» говорил генерал), в силу характера и при остроте своего языка язвил всегда.
Царь, понимая, что его военный министр с учетом подавляющего численного превосходства наполеоновской армии действует разумно, все-таки в душе надеялся на чудо. Очень хотелось верить, что его храбрая армия совершит невозможное – остановившись и дав генеральное сражение, погонит французов на запад. Но чуда не происходило, а Наполеон уже занял Смоленск – ворота к Москве.
Уступая мнению своего окружения о смене командующего и учитывая недовольство армии и общества действиями Барклая, Александр 8 августа 1812 года по представлению специально созванного Чрезвычайного комитета в составе шести высоких сановников государства утвердил в должности главнокомандующего армией генерала от инфантерии князя М.И.Голенищева-Кутузова. Члены комитета отмечали, что «недеятельность в военных операциях» происходит от отсутствия единоначалия в действующей армии, сочли неправильным фактическое подчинение Барклаю старшего его по званию Багратиона и соединение должности военного министра и Главнокомандующего. Кандидатуры генералов Бенигсена, Палена, Багратиона и Тормасова Чрезвычайным комитетом были отвергнуты и император с этим согласился. В письме к своей сестре Великой княгине Екатерине Павловне от 8 августа он несколько лукаво жалуется на нерешительность Барклая, досадует на ссору военного министра и Багратиона, на опасно возрастающее негодование общества положением в армии. Позднее, в другом письме ей же, царь свое решение перед войной о назначении Барклая фактическим Главнокомандующим оправдывает его заслугами в предыдущих войнах с французами и шведами, тем более, что второй претендент – Багратион, «понятия не имеет о стратегии». Самому же Михаилу Богдановичу в ноябре 1812 года государь объяснил свое решение о его отставке недовольством оставлением Смоленска.
В обществе, в войсках назначение Кутузова было воспринято с восторгом. Важно, что Кутузов был русским, его хорошо знали в армии по участию в войнах против Турции под руководством Румянцева и Суворова. Удачно действовал Кутузов в Польше. Горький осадок от поражения русской армии, которой командовал Кутузов при Аустерлице, сглаживался его победой над турками на Дунае и заключенным выгодным миром с ними за несколько месяцев до вторжения Наполеона.
Как часто бывает, приход нового человека вселял надежду. Многоопытный, мудрый Кутузов мог остановить французов. Помнили, как он в 1805 году в тяжелейшем положении, уступая французам в численности войск, отходя к Аустерлицу, не только сохранил свою армию, но и успешно громил их части при Кремсе.
Неоднозначно назначение Кутузова было воспринято генералитетом русской армии. Барклай был обижен, но благородно воздержался от оценок и поклялся, что и впредь будет все делать для победы русского оружия. Позднее, правда, после Бородинского сражения, во многом незаслуженно стал критиковать Кутузова за его распоряжения во время битвы. Его оценка стала основанием для появления версии о поражении русской армии при Бородине. Багратион, целивший на пост главнокомандующего, был взбешен и в послании к московскому губернатору Ростопчину дал злобную и уничижительную характеристику Кутузову. Генерал Раевский в письме к жене намекал, что смена командующего может ухудшить положение армии. Генералов Милорадовича и Дохтурова смущал в Михаиле Илларионовиче талант ловкого царедворца. Что касается чинов, генералы вообще народ очень ревнивый. Поэтому не будем их судить слишком строго. Все они были героями и внесли огромный вклад в разгром наполеоновских полчищ, но за победу в войне 1812 года почетнейший титул – «Спаситель Отечества», по праву получил именно М. И. Кутузов.
Утром 11 августа, отстояв на коленях молебен в Казанском соборе, Кутузов выехал в армию. Весь путь он изучает карту, отдает распоряжения и твердит:" Господи! Донеси меня здорового до места моего назначения, сохрани армию до того времени в целости! Об одном молю, благоволи мне застать Смоленск еще в наших руках, и врагу России тогда не бывать в первопрестольном граде ея!»
По дороге он встречает Бенигсена, направлявшегося в Петербург с жалобой на Барклая и тайной надеждой на свое назначение на должность Главнокомандующего, упрашивает его вернуться и возглавить Главный штаб. Служить под началом, по убеждению Бенигсена, как минимум равного себе Кутузова не очень приятно, но он согласился. Однако, с этого момента отношения между двумя генералами постепенно начинают портиться.
Узнав о сдаче Смоленска, Кутузов воскликнул:" Ключ от Москвы утерян!»
В субботу, 17 августа, прибыв в Царево-Займище, где Барклай решил дать генеральное сражение, Кутузов принял от него командование армией. Осмотрев вместе с ним выбранную для сражения позицию, выслушав доклады генералов, поняв, что войск все еще недостаточно, а позиция негодна, новый главнокомандующий отдал приказ об отступлении на восток навстречу к пополнениям, которые вел к армии генерал Милорадович.
Этот приказ войсками был воспринят спокойно. Армия верила Кутузову – он был свой. Каждый день вступая в ожесточенные схватки с противником, солдаты и офицеры видели насколько еще силен Наполеон и многочисленны его силы. Но уныние от отступления пропало и все больше в людей вселялась убежденность в грядущей победе над врагом.
________
Три потока французских войск сдерживали арьергарды: на севере – генерала Крейца, в центре – генерала Коновницына, на юге- генерала Сиверса. 1-я армия отступала по Новой Смоленской дороге, Вторая – по Старой Смоленской дороге.
Два егерских полка арьергарда, в том числе и полк капитана Данилова, получили приказ выдвинуться вперед и занять оборону в лесу за Гжатском и удерживать неприятеля до тех пор, пока по мосту через реку Гжать, протекавшей по городу, не пройдет весь арьергард генерала Коновницына. Рота Данилова вначале расположилась как раз у этого самого моста. Егеря срубили несколько толстых берез, чтобы после прохода своих войск перегородить деревьями дорогу и въезд на мост. Помогали солдаты из пионерной роты, которые должны были переправиться последними и зажечь мост. Потом полк вышел из города и занял позиции у дороги в лесу.
Прошла артиллерия, пехота, гусары. Проехал сам Коновницын со своим небольшим штабом. Лицо его было спокойно. Из-под шляпы выглядывал неизменный ночной колпак. Спросил у егерей:
– Удержите француза, ребята?
Солдаты загалдели:
– Не впервой, Ваше высокоблагородие. Понимаем. Подсыпим ему угольков, чтобы покрутился как черт на сковородке!
– Надо потерпеть. Вот вам и казаки с драгунами помогут- показав своей потухшей трубкой на строящуюся справа конницу и проезжая дальше, сказал генерал. Отец пятерых детей, нежно любящий свою супругу Анну Ивановну, беззаветно храбрый, и в то же время разумный и распорядительный в бою, Петр Петрович никогда не уступал поле сражения врагу, не будь на это приказа.
Уже через четверть часа перед полком показались французы. Они сразу на небольшом пригорке развернули батарею и выпустили несколько картечных залпов по лесу, в котором засели егеря. Затем большими группами в лес втянулись их стрелки, а на дороге появилась французская кавалерия.
Вольтижеры быстро наводнили лес и он посинел от их мундиров. Казалось, за каждым деревом и кустом, за каждой кочкой засел француз. Невысокие, смуглые стрелки, очень ловко и быстро перезаряжая свои ружья, постоянно меняя позиции, обрушили град пуль на егерей. Две из них сбоку прошили ранец Данилова. Французы стали обходить роту. Их штыками отогнали соседи. Огневой бой прерывался короткими рукопашными схватками. Стволы ружей и нарезных штуцеров егерей раскалились от частых выстрелов и их огонь стал не столь метким. Французов же становилось все больше и больше. Егеря начали откатываться назад. Чтобы не оказаться в окружении, Данилов распорядился отходить к предместью, где полк начал занимать новую позицию. Отстреливаясь, рота бегом покинула лес. Пробежав две сотни метров, егеря залегли у реки. Отдышавшись, кто лежа, кто с колена, кто стоя солдаты на выбор начали отстреливать выходящих из леса французов. Те отвечали, правда, без особого успеха и готовились сходу захватить мост. В этот момент по ним и ударили казаки и московские драгуны, которые были спрятаны до поры, до времени за домами у моста. Французы побежали. Кавалеристы преследовать их не стали, тем более, что на их фланг стали выезжать не менее двух бригад французских гусар, драгун и конных егерей. Ускоряя свое движение, они вышли к реке и старались отрезать от нее казаков и драгун. Закипел неравный кавалерийский бой. Удалось отбиться, но пришлось вброд уходить на другой берег Гжати. Город уже стал затягиваться дымом, кое-где над крышами домов показались языки пламени. Лишь главную улицу, по которой уходили войска, пожары пока не затронули.
Данилов увидел на мосту командира полка, о чем-то говорившим с пионерным офицером. Потом полковник замахал рукой, показывая, что надо переходить мост, а рядом стоявшие с ним барабанщики ударили «сбор». Вестовой галопом поскакал вдоль позиции полка оповещая об отходе. Полк по мосту быстро стал переходить реку и втягиваться в горящий город.
Егеря выволокли на дорогу березы и свалили их перед мостом. Французская кавалерия пошла было в атаку, но наткнулась на препятствие, замешкалась и под огнем егерей откатилась назад. Вперед побежали пехотинцы, стали разбирать завал. В это же время пионеры под прикрытием егерей залили мост горючей жидкостью, забросали мешками с паклей и щепками и зажгли. Французы вели по ним шквальный огонь, но никто из героев не был убит. Лишь их командир – молоденький поручик, уходивший последним получил пулю в плечо.
Французские кавалеристы вброд стали переходить Гжать и вслед за егерями вошли в центр города. Оставив пушки и повозки на своем берегу, неприятельская пехота через полуразрушенный и продолжавший гореть мост стала пробираться через Гжатск. Почерневшие от дыма егеря, цепляясь за каждый дом и переулок, отстреливаясь от наседавших врагов вышли из города. Там, у деревни Лескино, их ждала смена – пехотный, Сибирский драгунский и два казачьих полка с артиллерией.
На этот отряд вывел свою часть арьергарда дважды до этого избежавший окружения генерал барон К.А.Крейц. Преследовавшие его 13 эскадронов баварской кавалерии у Лескино попали в мешок, были разгромлены и отброшены.
Поздним вечером, объезжавший расположившихся на ночевку егерей полковник, поздравил Данилова с представлением к награждению за участие в боях к ордену Св. Владимира 4-й степени.
Бои у Гжатска задержали французов и позволили русской армии немного отдохнуть и привести себя в порядок, а Кутузову – осмотреться, оценить реальное положение дел в войсках.
18—19 августа в Гжатск генерал М.А.Милорадович привел 15 с лишим тысяч рекрутов, которые были распределены по полкам. Численность армии возросла до 113.000 человек и она стала готовиться к битве. Но, осмотрев ранее избранную Барклаем позицию для генерального сражения у Гжатска, Кутузов и ее счел невыгодной. Последовал новый приказ об отходе.
_______
21 августа армия подошла к Колоцкому мужскому монастырю. Заложенный в 1413 году на земле Можайского княжества, он много повидал на своем четырехсотлетнем веку. Проходили мимо, осаждали, рушили его стены татары, литовцы, поляки, свои русские князья во времена междоусобиц, но он стоял, расширялся заботами монахов и окрестных крестьян. Теперь пришло время повидать новых пришельцев.
Армия прошла мимо обители. Солдаты и офицеры задерживали шаг, с восхищением разглядывали ее разноцветные, блестевшие на солнце купала, стены, крестились, некоторые про себя просили у Господа удачи в ратном деле, спасения от ран и смерти, другие обещали скоро вернуться.
Гренадер Казанцев вспомнил, как отец и мать водили его с братьями и сестрами в храм в соседнем селе, когда-то принадлежавшим фавориту Петра Великого – Александру Даниловичу Меньшикову. Перед глазами встали заросшая по берегам ивами тихая речка Абица (современная Битца) под горой, табун пасущихся на заливном лугу лошадей из расположенных у села царских конюшен, желтые поля ржи и овса в округе, подмосковные дали с синеющими на горизонте лесами. На холме над рекой возвышаются старинная церковь Святителя Николая с колокольней под голубыми куполами. Вспомнилось, как причащал его строгий, но с добрыми глазами батюшка, а в окна храма пробивались снопы солнечного света и высвечивали потемневшие от времени, в золотых и серебряных окладах лики святых. Потом он, вернувшись в свое Жуково, сидя на бревнышках под раскидистым, пламенеющим гроздьями кустом бузины со своими босоногими дружками, рассказывал им, как батюшка читал молитву, потчевал его сладким виноградным вином и просфорой, а где-то наверху красивыми голосами пели невидимые певчие… Казанцев даже плечами передернул от этих сказочных воспоминаний. Вытер кулаком увлажнившиеся глаза и тайком осмотрелся – не видел ли кто его слабины. Сейчас не до этого. До Москвы осталось совсем немного. Надо быть строже и сильнее, нельзя давать спуску ни себе, ни французам, которые поганят родную землю.
Теплая ладошка дотронулась до мозолистой пятерни Казанцева.
Рядом с корзиной яблок в руке шагала синеглазая девушка – Люба Звонарева.
– Возьмите, – предложила Люба, протягивая корзинку Казанцеву.– Не так пить будет хотеться. Мне их сейчас целую корзинку в селе дали.
– Спасибо тебе,«василек».
Растроганный неожиданной заботой, Казанцев осторожно выбрал самое зеленое и захрустел. Остальные все до единого Люба раздала другим солдатам…
Еще под Смоленском рота Доборшина приняла в свои ряды» нежных рекрутов», как, посмеиваясь, солдаты называли двух особ женского пола – голубоглазую шестнадцатилетнюю Любу Звонареву и ее тетку Варвару Степановну, женщину крупную и строгую. Обе выходили из горящего Смоленска. Французская граната убила родителей Любы и спалила их дом. Тетка была вдовой, приживала в этом же доме у своего брата – отца Любы. Когда случилась беда, обе женщины собрали в узлы вещички, которые успели вынести из пожарища, и ушли из города вместе с армией. Через три дня они, смертельно уставшие и голодные, сидели у обочины дороги и безразлично взирали на проходившие мимо войска.
Полк остановился. Было приказано варить кашу и отдыхать. К женщинам подошли унтер-офицер Синицын, Доборшин, Жуков и Казанцев. Сопровождал их лохматый пес. Солдаты поздоровались. Синицын спросил:
– Куда путь держите, горемычные?
– Три дня уже идем. Из Смоленска к родне в город Гжатск – отвечала Варвара Степановна, – спасаемся от басурманов.
– А далеко ли этот Гжатск будет? Мы, вроде, туда же направляемся.
– Уж пол пути прошли. Наверное, не дойдем. Сирота вот, совсем из сил выбилась.
И тетка, плача, стала рассказывать о пережитом за эти страшные дни.
Солдаты слушали и у них темнели глаза и невольно сжимались кулаки.
Синицын подошел к поручику и попросил разрешения накормить несчастных.
Слышавший весь разговор, офицер распорядился накормить беженок и довезти их, если они не возражают, на обозной телеге до города.
Всеобщий любимец – ротный кобель, получивший от солдат, к неудовольствию Синицына, кличку Кузя, никогда не упускавший случая подраться с деревенскими собаками, а во время боя околачивавшегося в боевых порядках гренадеров и убегавшего в тыл лишь при близком грохоте артиллерии, сразу проникся теплыми чувствами к женщинам, взял их под свою опеку. Сперва он несколько раз лизнул Любину руку, а когда получил ответную ласку, весело замел хвостом. Он внимательно следил за проходящими мимо чужими, иногда даже начинал рычать и лаять. Снисходительно относился лишь к знакомым солдатам и особенно выделял унтера Синицына, по странному совпадению носившего имя Кузьма. Пес всегда ночевал рядом с унтером, с удовольствием выполнял его команды, угощение позволял себе брать только из его рук, все понимал. Одно время, пока обоим это не надоело, почему-то даже пристрастился сопровождать унтера, когда того прихватывала нужда. Солдаты ржали и втихомолку судачили – «скоро Кузя и Кузьма разговаривать начнут друг с другом.» Но мало кто знал, что любовь Кузи к унтеру возникла после того, как прошлой осенью Синицын вытащил этого бродячего пса из-под еще неокрепшего льда, куда, направляясь в соседнюю деревню к своим дружкам и подружкам, тот провалился, неосторожно перебегая речку.
С появлением женщин хвостатый Кузя на время оставил тезку. Кузя на удивление не пришел к своей глиняной миске с кашей. Унтер даже стал слегка ревновать. Считая, что никто не видит, незаметно для женщин он похлопывал рукой по своей мускулистой ляжке и манил кобеля рукой, округлял глаза, улыбался, даже слегка посвистывал. Кобель туманил грустью свой взор, но не шел. Не помогла и здоровенная кость, показанная ему Кузьмой по совету Казанцева.
Унтер подошел к женщинам. Посматривая на пса, спросил:
– Поели?
– Спасибо, служивый. Кашей накормили. Слава богу. Даже, вот, собачку угостили – Варвара Степановна потрепала ухо Кузи.
– Наш командир разрешил подвести вас на телеге, если вы, конечно, не против. Отдохнете, а там видно будет. Вы ведь в Гжатск идете?
– Туда. Ой, спасибо, родимые. Обузой не будем. Еду вам сготовим, бельишко постираем, если надо.
Кузьма под наблюдением пса усадил беженок на телегу, протянул им пол каравая хлеба, кусок сала. Фурштатному наказал особенно не трясти.
Прозвучала команда строиться. Полк двинулся на восток. Рядом с Синицыном привычно рядом бежал Кузя, гордо поглядывавший на своего доброго хозяина.
Прошли Царево-Займище, потом покинутый жителями Гжатск. Как-то само-собой получилось, что Люба со своей теткой стали своими, занимались хозяйством в роте, чинили и стирали солдатское белье, научились на костре готовить еду и даже одним своим присутствием повышали у солдат и офицеров настроение. Батальонное и полковое начальство как бы их и не замечало – было полно других забот. Правда, командир батальона как-то на привале намекнул своим орлам – «беженок не обижать, а то шкуру спущу.» Мог бы и не говорить. Каждый солдат стремился словом и делом угодить Любе и ее тетке. А те уже и привыкли к армейской жизни, а уходить было некуда и не к кому.
_________
Казачий полк арьергарда генерала Коновницына, в котором служил есаул Кузнецов, последние дни проводил в постоянных стычках и боях с наседавшими французами. Два дня они простояли у Гжатска, а затем навалились на арьергард русской армии. Когда 24 августа показались колокола Колоцкого монастыря и казаки отбивали яростные атаки кавалерии корпуса генерала Груши и пехоты Богарнэ, основная армия уже располагалась на бородинских позициях. Было необходимо дать ей время на постройку укреплений и размещение войск, позволить принять подходящие из тыла полки Московского ополчения (Москва вообще в 1812—1814 годах выставила 72 тысячи ополченцев или почти четверть всех русских ратников, Тула и Калуга – по 16 тысяч, С.-Петербург – 15 тысяч).
С запада грозно надвигались колонны неприятельской пехоты и кавалерии. В лучах солнца живописно сверкали латы, каски, колыхались знамена, рябило в глазах от разноцветных нарядных мундиров. Некоторые колонны шли с музыкой под барабанный бой. Впереди катились цепи стрелков и легкая кавалерия. После Гжатска французы стали заметно торопиться – манила Москва, а там и конец победоносного похода. Так говорил император и армия ему верила.
Французы наседали как никогда раньше. Русские егеря отстреливаясь, откатывались к стенам монастыря и дальше. Поддерживающие их казаки в пылу ожесточенного боя нередко теряли позиции, перемешивались с уланами, гусарами, драгунами, бывало стреляли и по своим. Не было никакой возможности отдышаться. Бились уже не полком и не сотнями, а отдельными группами. Лишь благодаря невозмутимости Коновницына порядок восстанавливался и перед французами снова возникала непробиваемая стена русских.
Вот и сейчас, после злой сшибки с саксонским шеволежерским полком, казаки собрались, выдвинули на дорогу полуроту своей конной артиллерии и вместе с пехотой полк вновь был готов к отражению атаки.
С пригорка перед деревней Валуева в эскадронных колоннах стали сползать вниз французские кирасиры, а за ними – итальянские конно-егеря. Набирая ход и не обращая внимания на град пуль кавалерия приближалась к русской батарее. В этот момент ей во фланг ударил второй батальон Изюмского гусарского полка. Гусары, одетые в красные доломаны с накинутыми на левое плечо синими ментиками, похожие формой на французских гусар, врубились в ряды конно-егерей. Удар был неожиданным. За спинами кирасиров и поднятой ими пылью итальянцы не видели поле боя и не сразу рассмотрели атаку гусар. А когда поняли кто перед ними, было уже поздно. Гусары сразу смяли не успевших перестроиться конно-егерей, рубили саблями и кололи пиками, а затем и погнали вспять, полностью разгромив эскадрон 3-го итальянского конно-егерского полка.
Кирасир приняли казаки, которых повел в атаку лично донской генерал Краснов. Генерал сразу был сражен ядром, которое оторвало ему ногу. Разъяренные этой потерей казаки не только остановили французов, но и вместе с изюмскими гусарами отбросили их до порядков итальянской пехоты. Попутно были разгромлены 2 эскадрона 11-го гусарского полка французов, пытавшихся помешать преследованию казаками их тяжелой кавалерии. Трофеем Кузнецова стал мушкет великолепной работы, который уронил ускользнувший от есаула гусар.
Очень эффективно действовала русская артиллерия, расстраивая французские колонны и срывая их попытки атаковать. С господствующих высот пушки и единороги вели огонь по всему фронту неприятеля.
Коновницыну было приказано отходить. Офицер-квартирмейстер из Главного штаба указал генералу направление движения в сторону села Бородино.
Получив отпор на центральном участке, французы остановились. Центр русского арьергарда начал отступление по Новой Смоленской дороге по указанному направлению. Его северная группировка под командованием генерала барона Крейца, избежав окружения значительно превосходящими силами итальянского вице-короля Богарнэ, направилась в сторону села Бородино; южная, генерала Сиверса 1-го, отбивая атаки польского корпуса и смещаясь к северу, отходила через деревню Ельня к Шевардину.
Казачий полк, оставляя разъезды, повернул на восток. Сотня Кузнецова шла за снятой с позиции артиллерийской ротой. Французское ядро с воем пронеслось рядом с Кузнецовым. Тугая струя горячего воздуха сбросила есаула с лошади. От сильной боли в левом плече и удара о землю Кузнецов потерял сознание. Очнулся он в телеге. Сразу почувствовал запах свежей травы, охапками набросанной в телегу. Рядом шагом ехали его казаки.
– Ожили, Ваше высокоблагородие?
– Вроде бы, да.
– Француз Вас ядром слегка зашиб. Еще наших двоих убил. Так что, Вас Бог миловал. Вы лежите пока. У нас порядок. Скоро уже до наших дойдем. Вон, видите, у той деревни стоят? – Вагин показал рукой вперед на два десятка изб в версте от дороги.
За деревней на небольшом пригорке возводилось укрепление, вокруг которого колыхались большие массы людей. Войск было много и чувствовалось, что армия основательно готовится к большому сражению.
«Ну, вот и дошли. Надо идти в строй " – ощупывая плечо, подумал Кузнецов и приказал подвести коня.