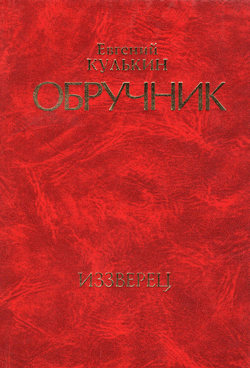Читать книгу Обручник. Книга вторая. Иззверец - Евгений Кулькин - Страница 35
Глава вторая. 1902
9
ОглавлениеИз предсонья, из чего-то еще обозначающего некую химерную кутерьму, вышло это видение, отравившее его дальнейшее бденье. Он увидел отца, но не изможденным, как всегда, неуемной попойкой, а каким-то просветленным и вместе с тем обреченным. Как бы знающим, чем кончается путь каждого православного человека.
В руках у отца был посох, на конце которого пламенел кумачевый очесок круто крашеной шерсти.
– Сосо! – обратился к нему отец. – Почему ты стал называться Кобой?
И, не дожидаясь, пока получит объяснение, продолжил:
– Имя, которое ты получаешь при рождении, правит нашей жизнью. Я – Бесо и мною…
Какой-то хохот разыгрался за его спиной. Но он не обернулся.
– Ты Иосиф Прекрасный, по-матерински сказал отец. – Зачем тебе этот поганый Коба?
Хохот перестал турсучить одеянье отца. Он даже, кажется, улегся у его ног и замурлыкал котенком.
– Ты знаешь, кто такой Иисус? – опять вопросил Бесо.
Он уронил фразу и тут же, пока она не долетела до земли, поднял ее живопорящей фразой:
– Хотя откуда тебе знать, ты же так и не окончил семинарии. А что увидел на небе, когда упулил себя на звезды?
Коба, не ведая зачем, но боялся спугнуть это наваждение. Было оно чем-то если не пророческим, то знаковым, что ли. Никогда отец не являлся ему ни во сне, ни наяву в таком благочестивом состоянии. Сколько он себя помнил, сроду был тот чем-то недоволен, а то и разгневан.
Сейчас он исходил благочестием.
– Так вот Иисус, – продолжал отец, – Сын Божий. И явился он в человеческом обличье затем, чтобы показать, что – в жизни – такой же, как все. А в смерти недостижим никем.
– Почему? – вяло полюбопытствовал Коба.
– Потому что воскрес из мертвых.
Внутри Кобы как-то само собой хмыкнулось.
Уж что-что, а это он все отлично знает.
И вдруг отец ему сказал:
– А тебе известно, почему Христос водил иудеев по пустыне?
Коба на минуту замер.
Так он делал всегда, когда надо было что-то вспомнить.
И в этот самый момент заметил, что вокруг ног Бесо, куда чуть раньше упал хохот, теперь извивается змея.
– Отец! Она тебя укусит! – крикнул он, кинув перстом в змею.
Бесо протянул ей руку, и она вползла ему на плечо.
– Сынок! – сказал он почти без назидания. – Те, кто собираются ужалить, не торопятся оказаться на виду у всех.
Бесо, как показалось Кобе, что-то шепнул змее и продолжил:
– Так вот Христос водил иудеев по пустыне, чтобы там, в сыпучих песках, утомить до той степени, чтобы они забыли все свое поганство и начали жизнь с чистого листа.
Что из этого получилось, ты знаешь.
Коба отник от видения в таком состоянии, словно давешняя змея проползла у него между лопаток. И вспомнил, что с нынешнего для решил вести дневник. Ведь завтра… Он взглянул на часы. Нет, уже сегодня наступит, точнее, уже наступил не только Новый год, но и Новый век. Хотя многие почему-то посчитали, что таковой датой явилось первое января девятисотого года. Но он-то, послуживший в обсерватории, отлично знает, что любой счет начинается с единицы, означивший справа число.
И вообще последнее время он во всем чувствовал какой-то непорядок судьбы. Ибо уже не был чадом восторга. Равно как брезговал читать бездарные книги. И даже кого-то поучал: «Если у тебя нет уверенности, что автор книги, которую ты читаешь, выбился из пагубы сюжета, значит, тебе повезло с чтивом. Ты сам создал ему интригу».
Тем более, что внезапно вспыхнувший к нему интерес подогрел и его собственное рвение стать великим, – и именно тогда он сел писать.
А что его остановило в этом?
А-а-а! Фальшь.
Да, банальная фальшь, на которую поддалась поэзия…
Но об этом лучше не вспоминать.
Теперь у него другие устремления. И обделенная часть человечества никогда не узнает, вернее, не почувствует, что это такое. А именно ему принадлежит такая фраза, неожиданно произнесенная во время спора: «Пустая жизнь – это историческая обуза».
И именно об этом напишет он в своем дневнике в первую очередь.
Но для этого надо дожить до конца дня. Вернее, выпутаться из паутины видения, которое никак не хочет его отпускать.
Вернее, оно как бы прошло, даже сгинуло. Бесо исчез и смылся образ его заспинья, если так можно выразиться, то есть всего того, что творилось как бы на втором плане.
Где, кажется, виделись следы на песке, оставленные тем множеством, что шествовало за Христом по пустыне с единственной, как всем казалось, целью, чтобы придти к оазису, к какой-то прохладе, да и к обильной еде и питию тоже.
Но для этого надо было пройти через изнурение, которое лишит тех привычек, какие укоренились в каждом, чтобы быть генетически переданными тем, кто придет после и станет таким же ожидаемым, как всё, что было до него.
Вот почему следует то всё, что было прежде, забыть?
И он вдруг вспоминает то, что, кажется, не связано с тем, о чем сейчас так просто думается. Две фразы из Библии возникают в памяти сами по себе. «Израиль живет безопасно, один…». Это – из Второзакония. И омывается вполне конкретным смыслом. Если бы в Экклезиасте не звучало несколько другое: «Горе тому, кто одинок, когда спотыкается». А вот хасидический раввин Брацлав Нахман, который жил сто лет назад, сказал: «Одиночество – высшая ступень, ведущая к Богу».
И Коба не перестает удивляться, что иудаизм в свое время так и не стал всеобщим вероучением, хотя и предлагал шестьсот тринадцать предписаний и ни одной догмы.
Это вычитал он еще у одного, на сей раз немецкого, раввина Самсона Хирша.
Коба никогда не думал, что так глубока чужая мудрость.
И именно благодаря ей сам вдруг ощущаешь себя далеко не легковесной личностью. Это он понял чуть раньше, чем прочитал у некого Адлера, что последний антисемит сгинет вместе с последним евреем.
Но одно он может сказать теперь определенно: это евреи развили в нем интерес к чтению. Именно в Коране он прочел: «Евреи – народ Книги». И тогда подумал: а почему, собственно, те же грузины должны быть народом гор или бурных рек? И вдруг напал на сетования Иова в Библии: «О, если бы записаны были слова мои, если бы в книге они были начертаны».
И простые люди стремятся описать ту жизнь, которая не столько их прославляет, а даже, кажется, облагораживает. Недаром тот же Брацлав Нахман как-то изрек: «Тот, кто способен написать книгу, но не пишет – подобен тому, кто теряет сына».
Коба, наконец, выпростал себя из наваждения, а потом и полусонья, в котором пребывал. Теперь он слышал, что за стеной шабаршил ветер. Что где-то далеко некий голос гонял по сонной улице рулады, видимо, пьяного предела. И хрипота то и дело перехватывала его горло. Пахло жареной накануне рыбой.
Он свернул цигарку, обильно выслюнил шов, который не хотел склеиваться, почти втянул в себя свет лампы, от которой вознамерился прикурить.
Что-то еще то и дело пульсировало в его душе, как бы выявляя необходимые импульсы, которые будут посланы в разные направления души, сердца, разума, а может даже и судьбы.
Душно вспомнился случай с женой Сергея Аллилуева Ольгой.
Вцепилась она ему в горло своими губами в темном коридоре, словно присосалась, чтобы пустить яд.
Он отшвырнул ее от себя. А она снова и, главное, молча, грызанула ему локоть.
– Нельзя доводить до такого состояния женщину! – прошептала страстно и отрешенно.
Коба, конечно, мог бы поверить в порыв Ольги Евгеньевны по той причине, что Сергей Яковлевич как-то равнодушно следил за ее многочисленными любовными похождениями.
Но все дело в том, что буквально накануне, она вот так же всосалась в горло приехавшему в Тифлис профессиональному революционеру Виктору Константиновичу Курнатовскому, и тоже шептала, что не может устоять перед его чарующей мужской привлекательностью.
Курнатовский был на добрый десяток лет старше Кобы. И, если так можно квалифицировать, развитее, что ли, ибо являлся инженером-химиком. Потому он рассказал Джугашвили, кто такой Владимир Ильич, брат того самого Дмитрия Ульянова, который принял мученическую смерть во имя революционной идеи.
Поэтому тут ревность была как бы обратного порядка. Кобе казалось, что Курнатовский как личность настолько высок, что женщина для него не должна быть обузой, убивающей идею.
А Ольга Евгеньевна буквально не находила себе места.
– Это новый век ее так понуждает, – сказала соседская старушка, плоть которой давно уже оттухла всякими желаниями.
О Владимире Ульянове Виктор Константинович сказал только одно:
– Он выше всех, кого я когда-либо знал. Хотя роста, прямо сказать, не богатырского. Впервые я видел, как ум проламывает темноту беспросветности, в которой мы живем.
Коба никогда не говорил с Сергеем Яковлевичем о его жене, считал, что это не очень уж удобно. Но постоянно чувствовал нарастание какой-то неведомой власти, которая угнетала мужское достоинство не только Аллилуева. Приходящие в революцию женщины привносили с собой что-то сугубо отвратное, не ложащееся в лоно борьбы, как уместился бы туда меч или сабля.
Еще одно ему бросилось в глаза. Почти все женщины, которых он уже успел перевидеть в рядах борцов за свободу, были иудейками. Да и сама Ольга Евгеньевна явно из того же самого племени, хотя всем рассказывает, что мать ее, Магдалина Айхгольц, немка-протестантка, а отец полнокровный хохол.
Насчет отца, конечно, сомнений можно не затевать. Его фамилия Федоренко. Она как бы сама говорит за себя.
Ольга как-то сказала Кобе, что ее – это в четырнадцать-то лет – позвала романтика.
И – куда!
В слесарню железнодорожных мастерских, где в ту пору работал Сергей Аллилуев.
И не богатство ее привлекло вовсе. У «человека металла», как она о нем говорила, «кроме молотка и зубила, судьба ничего не отрядила».
И тем не менее, такой вот брак состоялся.
И еще одно удивление все это порождает. Ольга оставила дом, в котором кусок хлеба никогда не был последним, потому как отец значился знаменитым каретником. И были ею брошены, если посудить по совести, – поскольку она была в семье старшей – еще восемь братьев и сестер.
Кобе казалось, что за ним могла пойти такая или подобная ей женщина по той причине, что он все же Избранный. А кто такой Аллилуев? Обыкновенный слесарь. Без каких-либо особых талантов.
Теперь-то она, конечно, все поняла. И, может, поэтому всасывается посторонним мужчинам в горло.
Где-то рядом взмяукал кот и сбил Кобу с размышления об Аллилуевых. Он стал думать о своих товарищах, с которыми теперь свел не только дружбу, но и судьбу.
Ну, в первую очередь, впечатляет Ной Николаевич Жордания. И даже не тем, что происходит из дворян и это ему первому – с нажженными идеям глазами – Сосо Джугашвили сказал:
– Мне можно быть с вами откровенным?
Жордания картинно опустил ресницы.
И Джугашвили продолжал:
– Я знаю, что вы кончили ту семинарию, в которой я учусь.
На сей раз ответом ему был кивок бородой.
Сейчас же Ной Жордания редактировал газету «Квали», что в переводе на русский язык звучит – «Борозда».
– Ты хочешь с нами сотрудничать? – спросил редактор, имея ввиду, конечно же, газету.
– Но в первую очередь, – боднул головой Сосо, – я хочу вести революционную работу среди рабочих. И для этого…
– Что? – подрезал его речь вопросом Жордания.
– Я готов бросить семинарию.
Жордания менее всего понятен Кобе. И не потому, что он себе на уме. Ной Николаевич, если так можно квалифицировать, не из тех циркачей, которые на канате пляшут лезгинку.
Он продуман и просчитан какой-то неведомой силой, которая не дает ему возможности стать безоглядным.
Михаил Григорьевич или, как его еще зовут, Миха Цхакая, не просто тот, кто был организатором «Мессами-Даси», но и являлся другом самого Фридриха Энгельса. И это ему принадлежит, как все в ту пору посчитали, крамольная фраза:
– Энгельс значительней Маркса хотя бы потому, что практик. А теория без практики, как известно, мертва.
Миха, как никто другой, воспринял Кобу, увидев в нем того, на кого, в конечном счете, можно не только положиться, но и опереться.
Ладо Кецховели родом из-под Гори из села Тквивали. И, естественно, в чем-то повторил судьбу Иосифа Джугашвили. Сперва учился в Горичковом духовном училище, потом в Тифлисской духовной семинарии.
– И от избытка духовности, – как-то пошутил Ладо, – стал революционером.
В отличие от Михи и тем более от Ноя, Ладо был человеком сугубо раскованным, даже можно сказать, расхристанным. Он не боялся сказать то, что другие предпочитали оставить про запас, а то и вовсе позабыть.
И именно поэтому стал на виду у полиции и у шпиков, которыми в ту пору был напичкан Тифлис.
Коба несколько раз попробовал урезонивать друга.
– Наша борьба, – отвечал тот, – только тогда покажет свою значимость, когда о ней заговорят открыто. А то ведь мы напоминаем мышей. Слышно, что мы есть, а видеть никто не видит. Только по помету и судят, что мы еще не передохли.
Спорить с ним было бесполезно. Потому как он почти на все аргументы отвечал цитатами из Библии.
Например, когда речь зашла о будущем, он прочитал Евангелие от Матфея:
– «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы».
А в пору, когда все расхвастались какими-то своими особыми делами, выходящими за пределы того, что может быть воспринято без проверки или сомнения, он опять же изрек псалом из Евангелия. Только на сей раз Иоанна:
– «Дети мои! Станем любить не словом, а делом».
Часто, размышляя о своей судьбе, стараясь хоть в чем-то усмотреть не очень четкую линию, проведенную Провидением, Коба не находил отсутствия целесообразности. И на память приходил старик, которому в порыве неведомо откуда спавшего на него откровения, он вдруг сказал:
– А можно одному вступиться за народ?
– За весь?
– Да.
– Конечно. Особенно, если поймешь, что ему это нужно.
Он помолчал и добавил:
– Однажды я спас от верной смерти лисенка. Так он искусал меня самым сумасшедшим образом. И почему? Да потому, что он должен был умереть, как предписывала ему судьба. А я вмешался в ее течение и был наказан.
– А если у меня сердце разрывается от той несправедливости, в которой погрязает общество, так что тогда делать?
– Понять, кто ты на этой земле.
Дед вздохнул:
– Если бы каждый из нас понял свое истинное предназначение, то и самого неравенства, о котором ты говоришь, заметно не было бы. А то ведь одни работают, а другие за ними наблюдают. А третьи контролируют тех, кто наблюдает. А за контролерами свои судьи или там еще какие конторщики.
При деле любой человек значим и прекрасен.
Наверное, дед был начитанным. Иначе откуда такие правильные мысли.
Но именно их правильность раздражала, или, более того, злила. Было в ней что-то удручающе-показательное, что ли. Как в модной стрижке, под которую была подведена глупая во всех отношениях голова.