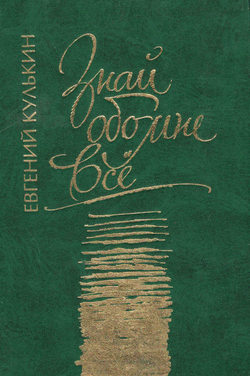Читать книгу Знай обо мне все - Евгений Кулькин - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Когда судьба в одном экземпляре
Веселая жизнь
Повесть в письмах
Мама
ОглавлениеМама встретила меня без слез. Она умела сдержаться даже в самую горькую минуту. А сейчас, считай, ей привалила радость в моем «оморяченном» виде. Бескозырка у меня, конечно, была с лентами чуть ли не до пояса, брюками-клеш, неимоверной ширины, можно запросто было мести улицу. Но «гвоздем» одежды был «гюйс» – форменный воротничок, специально вытравленный в хлорке до безликой белесости и говорящий каждому, кто к морю имел хоть какое-то касательство, что обнимает плечи своего хозяина чуть ли не с той поры, как зародилось мореходство.
На ногах же у меня были хромовые полуботинки, надраенные припасенными в дорогу щетками до самой высокой степени ясности. Это тленно про них оказал Храмов, увидев, как я навожу им лоск: «В их же, глядючи, бриться можно!»
На поясе у меня был, конечно, ремень. Но от обыкновенного флотского он отличался тем, что имел бляху, утяжеленную свинцом раз этак в десять, видимо, на тот случай, если придется однажды ею «отмахнуться».
Вот какой я был в то время франт. Из того, что не зависело и от баталерки, имел я короткий – пальца на два – чубчик ершиком, довольно объемные в обхвате плечи и легкую в своей самоуверенности походку. Конечно, не считая довольно дерзкого взгляда голубых – с темными прожилинами – глаз.
Так вот, как я уже сказал, мама полуобняла меня точно так, как – на почти другом конце света – чужой, в общем-то человек, Храмов, и – не плакала. А я, как ни крепился, все же промочил ей слезами плечо.
«Не надо, сынок, – сухим голосом сказала она, держа мою бескозырку в руке, а другой гладя меня по волосам. – Что ж поделаешь, такая наша судьба».
Я осторожно притих. Что она имела в виду под этими словами? Наверно, она думает, что догадался я, или мне стало известно все, что произошло здесь в мое отсутствие. Но через кого? Гиве я писать опасался, не зная, освободили его тот раз из милиции или он загремел в тюрьму. Не к Чурке же адресоваться!
И вдруг, увидев на стене портрет отца, с уголочка прихваченный крепом, я все понял.
И тут же попытался «вызвать» слезы и по этому поводу. Но их не было. Может, я просто-напросто забыл отца. Отвык от него. А может, он не был в отношении ко мне авторитетом, что ли. Я помнил его строгую недоступность. Со мной он почти не разговаривал. Тем более не играл. Был всегда подтянут, гладко выбрит и молчалив. Если уж сильно я его допекал, он не давал мне увесистого шлепка, как я того заслуживал, а говорил: «Смотри, матери скажу!»
Мама же все в отношении меня решала просто: если не виноват сейчас, значит буду таковым через минуту, разве я упущу выкинуть какой-либо фортель! И потому выволочка лишний раз – никогда не помешает.
Родилась мама в небольшом казачьем хуторке со степным названием Будылки, хотя он к степи, прямо скажем, имел очень небольшое отношение, потому что находился – с одной стороны – в песках, с другой – близ рыбно-утиного озера Распопина, когда-то, наверно, бывшего старицей Дона.
Песчаные дюны звали тут «бруны», на них рос казачий можжевельник, тоже имеющий местное название «кулючник», и роскошествовал чебор – трава с самым волнующим запахом Обдонья. Не знаю как кому, а мне эти фиолетово-синие цветки кажутся самыми прекрасными в мире.
Дед мой, мамин отец, был стариком без причуд и предрассудков. Он, как-то вроде бы исподволь, пахал землю, растил детей, плел из хвороста самоловки и иногда, между делом, рассказывал разные казачьи байки и были, потому что на дне сундука лежало у него четыре «Георгия» и столько же медалей, которые не давали за «здорово живешь». Соседи говорили, что у него наград – «полный бант». Что это такое, я не знал. Да и дед не особенно объяснял, потому что все царской чеканки – от крестов до денег – вызывало в пору моего детства почти отчаянную злобу. Пока мы успешно разрушали «старый мир», и ничего нет удивительного, что однажды деду стало не на что смотреть с тайной гордостью, вспоминая себя молодым. Из его крестов понаделал я блесен для ловли окуней.
Помню я, но только самую малость, – и прадеда. Потому что огурцы резал ему мелочко-мелочко маленьким, должно быть, игрушечным, ножичком, ибо у прадеда совсем не было зубов, а страсть хотелось ощутить во рту огуречную свежесть.
Деда моего звали Егор Филиппыч, а прадеда – Филипп Андреич. Оба они остались у меня в памяти как люди мягкие, с незлобивой усмешинкой, а порой и кротостью. Тем ярче, на их фоне, выглядел сурово железный характер моей мамы.
Помню, «ломали» Буланого. Все мои дядья чуть ли не в лежку лежали, так уходил их конь. И сам вроде бы «сел», бока ввалились, селезенкой еле екает. А все равно не дается ни уздечку надеть, ни седло накинуть.
Вот тут-то и взяла в руки повод мама. Одним махом вскочила на Буланка да в бруны его направила. Пошел он песок толочить. Сперва вроде играючи: мол, седок-то – баба. Потом, глядим, резвость у него не та. Кидает зад, а дальше бабок не подымается. Подергался еще какое-то время, подергался и – сник. Привела она его в поводу, сперва заседлала, потом и в оглобли ввела. Хоть бы что. Даже ее желание уловить норовит, словно я, когда хочу скрыть какое-то заслуживающее порки шкодство.
Подвела она его к дядьям.
«Возьмите, братовья, своего неслушенника! – и добавила: – Если бы все люди такими норовистыми были – жить бы не тужить».
И еще – работала, то есть что-либо делала, мама так быстро, что мне все время в удивление было. Все, как говорят, горело у нее в руках. А вот ела медленно, опровергая поговорку: «Кто как ест, так и работает».
В свое время мама учительствовала у знаменитого помещика Жеребцова. Потом, уже после революции, занялась беспризорниками. Этот детдом у нее шестой. Только наладитнастроит дело – ее на новое место переводят.
Отношения у отца с мамой были какие-то скачкообразные. То он возле нее: «Асёк, Асёк!», а то месяцами никак не величает. Было ему с ней, как я понимаю сейчас, не очень легко. Из-за ее твердого характера. Именно твердого, но не упрямого. Стоит ей убедиться в своей неправоте, она тут же не только это признает, но и сделает, как советовали другие. Но для этого она должна убедиться в их правоте на сто процентов.
Теперь об имени мамы. Вообще-то – по метрикам – она Анастасия. Но родичи ее всяк по-своему величали. Тетка Марфа-Мария – Нюркой. Тетя Феня из Козлова – Анюткой, а остальные – кто Нюсей, кто Анной, а какой-то многоюродный брат, выбившийся в народные артисты, звал ее совсем по-иностранному – Антуанетта.
До революции дед мой был хуторским атаманом. Должность эта примерно такая, как сейчас руководство каким-нибудь «зеленым обществом», в его первичном значении. Идут туда неохотно, потому что прав – никаких, а обязанностей – хоть отбавляй.
Вот за это атаманство его в двадцать девятом чуть не раскулачили. Спасибо дядя Коля внезапно объявился. А он в ту пору уже каким-то большим начальником в Москве работал. Те доброхоты, что вроде за Советскую власть пеклись, сразу и отлипли, а на одном собрании деда в председатели Совета чуть не выбрали. Насилу он отговорил их от этого. И, как потом оказалось, не зря. В тридцать седьмом, когда и дядя Коля «загремел бубенцами по колодным путям», пришли те же, правдолюбцы, что в коллективизацию расстараться не успели.
«Где свои блестушки дел? – кричали они ему в лицо, намекая на кресты и медали. – Ждешь, когда власть мироедская возвернется?»
«Жди вызова!» – сказали напоследок и отбыли.
Сложил дед вещички, ждет, когда в «казенный дом» поведут. А тех «праведников» нет и нет. А потом слух пошел: по пьянке утопли они в Дону. Лодка перевернулась на быстрине, и они – даже не вскрикнув – пошли на дно, словно на них были понавешены все грехи тех, кого они еще не успели упечь.
В войну по Будылкам немцы из орудий жахали. Казалось им, скрываются там наши бойцы. Только они больше в лесу обретались. И по балочкам. А те по брунам палили. Уж больно издали они на замаскированные окопы похожи.
В Будылках мама жила все детство и часть девичества. А потом переехала – на хлеба – как раньше говорили, тоже к нашему родичу станичному атаману Василию Василичу Попову и стала учиться в гимназии. Там на каком-то вечере с Шолоховым танцевала, не подозревая, что это будущая знаменитость.
Детдомовские ребята маму любили. Конечно же за строгость. Как-то уж так повелось, что только она у нас в памяти остается. Вроде бы куда лучше разные потешки и потакания. Ан нет, все это не оставляет следа, проходит как само собой разумеющееся, а твердость помнится на всю жизнь.
В том детдоме, с которым мама уехала из Сталинграда в Барнаул, так и хочется назвать «в сам», как говаривала Марфа-Мария. Так вот в этом детдоме был такой Кондрат Зозуля – парень «непроветренной судьбы», как пошутил кто-то, и неопределенного возраста, потому что в каждом классе он сидел по два-три года. Мама еще мне порой говорила: «Вы с Кондратом – близнецы-братья». Это она намекала на то, что плохо оба учимся. А мы в ту пору с ним в одном классе были. Правда, он уже ни за одной партой не помещался. Иногда, для хохмы, встанет и вместе с ней по классу ходит. Особенно длинными у него были ноги. И большущими в лапе.
Мы с Кондратом ладили. Он любил слушать, когда я говорил. О чем бы ни было: уронит нижнюю губу на подбородок и – слушает. Уши квадратные. Нос кукурузным початком. А глаза мелкие, словно в тыкве огуречные семечки.
Помню, читали мы в классе после уроков одну книжку. Про пушкарей. Там еще прицел с орудия сбило, и его наводили через ствол. И здорово это у артиллеристов выходило, когда они из него палили.
После того, как кончили читать, Кондрат долго вертел книжку, поклацывал языком, пощелкивал пальцами и вдруг сказал: «Во написано, как в книжке!»
И вот, в сорок втором, приспела пора Кондрату уходить на фронт. Пришел он в класс и, не знаю по чьему наущению, поклонился в пояс, сначала матери моей, потом, вставшим, и всем нам. Но руки никому не подал. Угнувшись вышел быстро, что на него не было похоже.
И – сгинул. Ни слуху, ни духу. Уже о нем и забывать стали, как явился Зозуля с перебинтованной головой, вернее, с повязкой на глазу. А вокруг него два офицера увиваются, словно он не меньше, как генералом стал. Скидает Кондрат шинель, и у меня так лично дух заняло: на его груди звезда Героя.
И вот что произошло с Зозулей на войне. Попал он, как и того хотел, в артиллерию. Подносчиком снарядов. Работа, можно сказать, привычная: бери больше, неси дальше. Ну и, конечно, вокруг стреляют. И даже бомбят.
И вот отлучился один раз Кондрат за снарядами. Приходит обратно, а мина весь расчет осколками выстригла. И наводчик висит головой на щитке.
А пушка их в балочке стояла. Начал Кондрат соображать, что же делать. И видит – впереди танки. Прут. Дымом едучим в небо попыхивают.
Открыл он замок, через ствол навел на головной танк и – пальнул.
И тот дымом пополам с пламенем, окутался. Заорал от восторга Кондрат. Он танк подбил! Сам. Без сопливых. Во второй метился уже с присловьем:
«Погоди, я твою кабаржину на нашем советском огоньке выдублю!»
Может, тоже Кондрат где эту присказку перенял, но, как он считает, именно она помогла. Правда, на этот раз танк не загорелся, как тот – первый, – а башня с него пасхальным яйцом скатилась.
Так подбил он шесть танков.
А обстановка на тот час была таковой. Пехота, что стояла попереди артиллеристов, отступила. А потом, оказывается, был приказ отойти и пушкарям. Но этого ничего Зозуля не знал. А когда начал он один танки колошматить, пехота – стихийно – поднялась и – «ура!» И снова заняла ту высотку, на которой не смогла устоять спервоначалу.
Увидал Кондрат, что пехтура вперед рвется, схватил свой карабин и вместе с нею на высотку понесся. Вот там-то ему глаз и высекло.
Тут генерал случился.
«Кто стрелял из пушки?» – спрашивает.
И у Зозули уши привядать стали. Наверно, он опять что-то некстати сделал. Молчит. А пехотинцы на него указали. Ему как раз выбитый глаз к голове прибинтовывали, думали, приживется.
Подходит к нему генерал и говорит совсем некомандирским голосом:
«Спасибо, сынок!» – и фамилию его в блокнот – чирк.
А потом был госпиталь. «Бронетанковые» там крупными силами наступали, вши, значит. Ели зверски не только всех смертных, но и его, не подозревая, что грызут нашу гордость – первого Героя школы.
К концу войны их будет целых пять. Но Зозуля был первым.
Указ застал Зозулю в кино. Для выздоравливающих крутили на передвижке какую-то не то хронику, не то просто художественную малоформатку. Словом, между солдатами там спор произошел. Один – длинношеий, с подвязанной рукой, кричал:
«Вот как надо воевать!»
А Зозуля ему в ответ, хотя, как мне помнится, он сроду не участвовал в спорах:
«Фигня все это! Надумка».
«Ты бы в этом понимал?» – поддержал длинношеего его сосед по койке, кажется, разведчик.
Словом, идет у них там «перепалка местного значения», как зашел в зал начальник госпиталя и попросил, чтобы на минуту вырубили кино и включили свет.
«Кто Зозуля?» – спросил он.
Кондрат поднялся, подумав: «Ну вот, кто-то уже донес, что я тут разговорился».
«Поздравляю вас, – торжественно произнес начальник госпиталя, – с присвоением вам звания Героя Советского Союза!»
Сперва в зале установилась такая тишина, словно начальник сообщил о нападении на нас, вкупе с фашистами, и марсиан, потом раздались дружные хлопки.
«Кончай эту фигню!» – крикнул длинношеий и полез к Кондрату обниматься.
Поздравил, но более сдержанно, его и разведчик.
А потом кто-то предложил:
«Качать его, братцы!»
На второй же день всю одежду Зозули, где вши заняли долговременную оборону, кинули в огонь, надели на него байковое нижнее белье и даже в отдельную – небольшую, правда, – палату перевели.
Лежит Кондрат один, сестры к нему час и минуту на цыпочках заглядывают, одни – из любопытства, другие – более вертучие – из корысти. Не цимус ли выйти за Героя! От одного почета с ума сойти можно.
И вот после, кажется, того, когда человек начинает вкус славы на зуб пробовать, приходит он к начальнику госпиталя и говорит:
«Переведите меня к ребятам, тоской я там изошел».
Пришел Кондрат к нам в класс и снова, как в ту пору, как уходил на войну, поклонился отдельно маме, а потом и всей нашей братии, в улыбке никак не соберущей вместе губы.
И вдруг спрашивает:
«Ребя, возьмете вы меня к себе? Ведь я малость недоучился!»
Ну тут мы чуть на головах от восторга не пошли. А директор, при этом присутствующий, прослезился. Он, правда, у нас был «слабосисий», как назвал бы его Савелий Кузьмич.
Офицеры, когда все это говорил Зозуля, стояли навытяжку и ободряли нас не садиться до тех пор, пока не кончится этот торжественный миг.
Но учиться Кондрату не дали. А просто выписали свидетельство об окончании школы. Решили, своим подвигом заслужил он того, чтобы и закон нарушить. А потом его директором кинотеатра сделали. Там еще рябая тетя Маша работала. Вреднющая самой лютой вредностью. Теперь бы сказали, со знаком качества. Нас, пацанов, она в упор не видела. Выставит свою цистернообразную грудь – и с места ее не сдвинешь. Даже при пустом зале ни одного пацана бесплатно не пустит. Законница. В народных заседателях, сказывали, ходила.
И вот Кондратий Иванович пришел в тот кинотеатр директором. Она, конечно, помнила, как вытуривала его первым, потому что он не умел незаметно прошмыгнуть мимо нее и ловко спрятаться между кресел.
Сноровки у него на это не было. Если же он все же и проходил без билета, уши его так горели, что по ним тетя Маша, чаще после сеанса, когда вспыхивал свет, безошибочно находила безбилетного Зозулю и – торжественно и гордо – вела его к директору, как государственного преступника.
Детей у тети Маши сроду не было, мужа – тоже. Поэтому сердцем, не привыкшим к нежности, она крушила все наши надежды на ее милосердие. И, когда добивалась нашей выволочки или других спешных мер воспитания, смеялась беззвучно и долго, мелко-мелко тряся подбородком и тяжело колыхая громадным животом.
Зозулю тетя Маша, я даже думаю, что вполне искренне, встретила как родного. Обняла и даже прослезилась.
«Половину белого света ты теперь, почитай, никогда не увидишь», – намекнула она на потерянный Кондратом на войне глаз.
А вот отчество его постоянно путала. То Василичем его величала, то Палычем. А один раз назвала даже Ипполитовичем.
Зозуля, видимо помня свое не очень далекое детство, с нежностью во взоре глядел на безбилетников, и как только начинался сеанс, спиной отгораживал от двери тетю Машу и командовал пацанам:
«А ну – шамором!»
Ребятишки закатывались в зал биллиардными шарами, ложились впереди первого ряда или рассаживались на галерке. И сразу кинотеатр начинал жить чем-то довоенным. События на экране бурно переживались теми, кто попал сюда задарма, и недовольная излишней шумностью степенная публика, знающая, где надо улыбнуться, а где – не очень искренне – всплакнуть – начинала роптать.
А сам директор в это время стоял у входа и, не смотря на экран, потому что ему запретили перенапрягать зрение, слушал не то, что говорили герои кинокартины, а как гудит, бурлит, а то и неистовствует зал, благодаря тому, что фильм смотрят ребятишки, безбилетники, самые искренние и, может, немного жестокие ценители искусства.
Потом Кондрат был слесарем. Не заладилось у него в кинотеатре. Из месяца в месяц план стали «заваливать». Начали допытываться, в чем дело, тут сам Зозуля и сознался:
«Уберите меня отсюда. Не будет толков из моей работы».
Он не стал объяснять, почему именно.
И погиб Зозуля – опять же – как герой. Кинулся в полынью за тонущими ребятишками. Их на лед выбросил, а сам, почему-то крикнув: «Прощайте, голуби!», ушел под воду и больше не вынырнул.
Его нашли через неделю далеко от того места, где случилась беда, вырубили изо льда, куда он почему-то вмерз, и – с почестями, которых у нас никто не удостаивался – похоронили.
Смерть настолько изменила Кондрата, что я до сих пор думаю, что проводил в последний путь другого человека. А он, так и никогда не имевший в жизни своих голубей и потому, видимо, вспомнивший о них в свой смертный час, стоит где-нибудь в сторонке и глядит в небо, или, уронив нижнюю губу на подбородок, смотрит на того, кто складно говорит о прочитанном или пережитом.
В начале войны, когда беженцы стали приезжать, а потом и приходить в Сталинград, мама шла на вокзал, где буквально отлавливала беспризорных ребятишек и определяла их в детдом.
И мне, часто бывавшему в те дни в детдоме, было заметно, как менялась в нем сама жизнь и понятие первенства и «паханства». Появились новые оценки человеческой смелости и дерзости. «Духари», которые сроду держали верхушку благодаря надорванному от частого хрипения горлу, примолкли. Правда, иногда «рыднут» по старой памяти, но им тут же прижмут хвост: каждым столько страха пережито, что бояться стало как-то скучно.
Но борьба за власть среди беспризорников велась. Не за «паханство», как раньше, а за тонкое влияние на других, без громких окриков и угроз. И первыми тут были обычно те, кто уже имел шрамы на теле и отметины на лице, только полученные не в уличных драках, а во время бомбежек или даже боя.
Раньше к нам детдомовцы сроду не ходили. Мама руководила ими там, в неведомом для многих далеке. Только я мог являться к ним когда вздумаю, потому что был сыном директора.
А в основном с «вольными», как звали в ту пору небеспризорных детей, ребята из детдома встречались в школе. И там, где мама, помимо директорства, имела еще уроки, меня – из-за нее, конечно, – особенно уважали и – без пижонства и подхалимажа говорили: «Анастасия Егоровна – человек!»
Теперь детдомовцы буквально дневали и ночевали у нас. Возникло своего рода обратное шефство. Особенно укрепилось оно в тот момент, когда к моему, как все считали, бесследному исчезновению, прибавилось горе, пришедшее к маме с похоронкой на отца. Ведь он погиб уже после Победы. Под Прагой.
Потужив, после приезда, с мамой часик или два об отце, об тетке, об Савелии Кузымиче и – отдельно – об Иване Иннокентьевиче, которого она не знала, я пошел в милицию выправлять документы.
Теперь милиция находилась в другом месте. Не в подвале, как раньше, а в доме, где – к тому же – занимала целых два этажа. На ремонте одного из них и сейчас еще работали какие-то поднадзорные личности.
Я сел в очередь, кстати, отметив, что теперь очередь не стояла, а сидела, и стал рассматривать газету, которую кто-то забыл на том месте, на которое опустился я.
Милиционеры ходили по коридору шустрячком, спокойно и с достоинством отвечали, когда их – вопросом – задевал кто-то из очереди, и были чем-то непохожи на тех, которых – в свое время – пришлось видеть и знать мне.
И только я об этом подумал, как из приоткрывшейся двери высокий – со шрамом возле уха – капитан крикнул:
«Пахомов, зайди ко мне!»
Во мне остановилось дыхание. И еще один у них Пахомов есть. И вообще, зачем меня преследует эта фамилия? Неужели мстит за того Пахомова, которого… я…
Я поднял глаза и остолбенело поднялся. Вдоль по коридору, косолапя, шел тот самый Пахомов, какого, считал все эти годы, я подорвал.
На нем были такие же, стоптанные вовнутрь, сапожищи, которыми он здесь – в милиции – умудрялся не оставлять следов, хотя, как и прошлый раз, на улице шел дождь и он только что явился со двора.
Я забыл, зачем пришел в это двухэтажное здание с недоделанным верхом, и потому задумчиво вышел на крыльцо, потом, спустившись с порожков, и на улицу. Рядом шепелявила вода. Дождинки путались в моем чубчике и не доставали до головы. Потом я вспомнил, что надо надеть бескозырку.
Незаметно добрел я до того яра, где жил Пахомов. Большая часть двора, который я видел раньше, оползла. Но, видимо, не от моего взрыва. А домик стоял. Сиял окошками, обновленно голубел краской, которой, видно, совсем недавно, были выкрашены наличники.
Я поехал на Тракторный, где теперь жили все мои друзья. И – только слез с трамвая, кто-то оглашенно засигналил за моей спиной. Посторонился, мол, проезжай, не такой уж я широкий, чтобы занять собой всю мостовую.
Но машина, слышу, еле едет и опять клаксонит.
Обернулся я и глазам своим не поверил: Гива! Сидит за рулем и зубами двухрядку показывает. А рука – замечаю – явно другая к «гуделке» тянется. Повел я взором на то место, где обычно пассажиры восседают, а там – прямо обалдеть! – Нюська-шоферщица.
«Он у меня стажером!» – быстро проговорила она, чтобы я не подумал, видимо, наоборот.
Она соскочила на землю, оглядела меня со всех сторон и заключила:
«А ты – ничего! Только теперь, наверно, задатности еще больше будет – моряк!»
«Ну ты чего, в отпуск?» – спросил меня Гива, тиснув потяжелевшими, что ли, руками.
«Нет, насовсем! – почему-то грустновато ответил я, первый раз поняв, что решительно не знаю, чем буду заниматься на «гражданке». – Вишь, повоевать не пришлось. Грудь так и осталась пустой для наград».
Мне казалось, я юморил. Но ни Гива, ни Нюська не улыбались. Видно, радость, а может, неожиданность, прошли, и я заметил на их лицах заботу и голодные тени под глазами. Да, именно, голодные. Я очень хорошо знал, как они выглядели… И вспомнились слова мичмана Храмова…
Гива, наверно, понял, зачем я его разыскал, потому, отведя меня в сторонку, за что получил от Нюськи презрительное: «Какие секретные стали!», рассказал то, чего я не знал.
Оказалось, услышав скрип двери, как я подумал, в уборную и, не глянув на сигнал Гивы, смыканув я тогда леску, и… никого не подорвал. Ибо Пахомов в ту пору спустился в погреб. И это, конечно, его спасло.
Думал, надолго обиделась на нас Нюська. А она ко мне прискипаться стала:
«Ну, Генка, и фрайер фортовый из тебя вышел!»
«Откуда это ты блатных словечек нахваталась?» – спрашиваю.
«Сейчас все так говорят», – отвечает.
И только тут я глянул на машину, которой Гива с Нюськой, или наоборот, управляли. И вижу – отродясь не видел такой. Нос тупой, кабина прямо над передними колесами. Каракатица да и только!
«Как ее кличут?» – спрашиваю Нюську.
«Ренауль!»
«Чья же?» – интересуюсь.
«Была итальянская, сейчас наша!» – это уже острит Гива.
У него, кстати, здорово затемнело над верхней губой. Вот-вот бриться начнет.
Смотрю, Нюська Гиву – по боку.
«Иди пехом в гараж, – говорит, – а я этого морячка по старой памяти прокачу! – и добавляет: – С ветерком!»
И, стерва, прокатила! Я аж позавидовал, как она ездит. Словно в машине родилась с ключами зажигания во рту.
«Иди к нам в колонну? – говорит, когда все междометия, мне адресованные, иссякли.
«Слесарем?» – спрашиваю.
«Да такого красавца можно и начальником устроить! – она так же мечтательно, как я помнил, сощурилась. – Ни одного мужика в шоферах не останется».
«Почему же?» – не понимаю еще ее подначку.
«Девки их всех повытеснят!»
«Потешон работает?» – интересуюсь, чтобы сбить ее с не очень мне приятного разговора. Я еще не привык, чтобы меня, как дурака, в глаза хвалили.
«А куда ему деваться, воюет. Он нам – слово, мы ему – десять. Вот такая у нас арифметика».
«Останови», – прошу.
«Ха! – не сбавляя скорости, говорит Нюська. – Быстро тебе наша земная езда приелась. – И вдруг спросила: – А порулить хошь?»
У меня зачесались ладони. Она уступила мне место, показала, как включаются, кстати, страшно неудобно, скорости, и посоветовала:
«Только газульку прижимай посильнее, пружина на акселераторе жестковата».
Сел я за руль и – не поехал. Не могу с места сдвинуться, хоть плачь. Вот вроде нащупал первую скорость, медленно отпускаю сцепление и – одновременно – жму на газ. А машина, урлыкнув, глохнет.
«Ничего, – успокаивает меня Нюська. – Так все на этих «ренаулях» начинали. А Потешон до сих пор на этой, как он говорит, «Ведьмаке», где садится, там и слезает.
Употев, наверно, до шестого из семи потов, я, наконец, поехал. Сперва робковато, потом, освоясь на ходу, быстрее.
Нюська искоса на меня глядит, за ленты трогает, потом, сняв с моей головы бескозырку, себе напялила. Спрашивает:
«А девок на флот берут?»
«Ага! – развязновато отвечаю я. – Если хорошо попросят».
«Кого!» – не поняла она.
«Не они, а у них», – уточняю я и вдруг понимаю, что моя первая сухопутная шутка, прямо скажем, довольно плоская. Добро хоть Нюська так ничего и не «усекла».
Только сказала:
«А ты, Генка, все такой же. И вроде доступный всем, а руку протянешь – колешься. Как ежик».
«Чего-то незаметно, чтобы ты что-либо протягивала», – слукавил я.
Я, на миг отвлекаясь от дороги, как бы по частям сравнивал Нюську с прежней шоферицей, какую когда-то водил в кино и которая верила в россказни цыганок.
Глаза у нее все те же. Чуть с косинкой. А вот подбородок почему-то, как мне кажется, стал выдаваться дальше, чем раньше. И губы немного уморщились. Тут она становится похожей на тетю Дашу. И я невольно понимаю: возраст. Сколько ей сейчас может быть?
Но эту мысль перебивает мое новое наблюдение. Груди обвяло опустились, хотя заметно покрупнели. А вот коленки округлились. Раньше, помнится, они у нее были острыми.
А вот морщин на лице, кажется, не прибавилось. И еще – румянец какой-то новый появился.
Тогда я еще не знал о чудесах, которые делает косметика.
Мои наблюдения прерывает милицейский свисток.
Торможу.
Сержант неторопливо пересекает проезжую часть, машины почтительно уступают ему дорогу.
«Ваши права», – говорит скучным голосом и смотрит куда-то поверх кабины, словно определяет, будет еще дождь или нет.
Я – мнусь.
«Ты чего же меня не узнаешь? – начинает заговаривать с сержантом Нюська и сует свое удостоверение. – А это, – кивает она на меня, – мой стажор».
Сержант долго рассматривает стажорку Гивы, которая была в «бардачке» машины и потому оказалась под рукой.
«Брат у меня с флота приехал, – продолжаю я врать с вдохновением, которое давно меня не посещало. – Вот дал поносить».
Милиционер несколько раз сличает мою морду с фотографией на стажорке, потом возвращает и – опять нехотя – произносит:
«Можете ехать!»
Но ехать расхотелось, и я, зарулив за угол какого-то, незнакомого мне переулка, остановился.
«Давай я тебя поцелую?» – внезапно предложила мне Нюська.
«Валяй!» – равнодушно, наверно, точь-в-точь, как тот сержант-милиционер, разрешил я.
Губы у нее оказались неожиданно нежными. Она целовала меня и смеялась:
«Сейчас нацелуюсь на целый месяц!»
И мне вдруг стало обидно, что Нюська вновь все на зубоскальство переводит, и резко отстранился.
«Хватит! – говорю. – Оставь для других!»
Она посмурнела, смеяться перестала, потом выдавила меня своим погрузневшим телом из кабины и сказала:
«Дурак и не лечишься!»
Домой я добирался пешком. Мне было очень легко. Я – какое-то время – бежал рысцой, а – другое – пел. На меня оглядывались прохожие и понимающе улыбались, наверно, знающие расхожую армейскую шутку, что пьяница служит на флоте.
А легко мне было потому, что за столько времени я впервые почувствовал, что не убийца. Ведь что ни говори, а какой-то груз подспудно изнурял мою душу, тяготил сердце. И вот он с моих плеч сошел и подарил мне эту радость.
А вечером к нам пришел Иван Палыч, который только что приехал из командировки.
«Ну что, Гена, – начал он без вступления, – давай поговорим?»
Я не знал, о чем будет речь, но, увидев, что мама собирается оставить нас одних, понял – разговор будет нешутейный.
Я не буду пересказывать всего, что было сказано в тот, честно говоря, очень памятный мне вечер. Но общий смысл беседы был таков: пора мне становиться мужчиной, не по годам, конечно, и похождениям всяческим, а по уму, что ли, по мудрости. Надо помогать матери, а то она вон в нитку вытянулась.
«Учиться тебе пора!» – резко ответил Иван Палыч на мой вопрос: «Что я должен делать?»
Я напомнил, что в школе юнг – между делом – проштудировал тот учебник шофера третьего класса, который когда-то – теперь уже так давно – дал он нам с Мишкой Купой, и могу хоть завтра сдать экзамен.
«Это все – «семечки»! – отмахнулся Чередняк. – А сейчас валяй в педучилище!»
Говоря откровенно, я опешил. Все что угодно мог я ожидать от Ивана Палыча, но не этого. Неужели по моей морде не видно, что я не способен быть учителем. Это было бы так же смешно, если бы из него самого пытаться сделать оперного певца. Ведь он совершенно не имел голоса и все песни пел на один мотив.
И все же он повторил:
«Валяй, а то время зря потеряешь!»
Теперь я понял, почему при нашем разговоре не присутствовала мама. Она, видимо, не хотела подтвердить мои слова, что я вовсе не гожусь в учителя, и этим – ненароком – не обидеть Ивана Палыча.
«Ну а как же быть с автошколой?» – осторожно спросил я, вложив в этот вопрос намек: как же, мол, жить дальше?
«Поедешь со мной, – сказал он, вставая. – Думаю, что все будет в порядке».
Я не спросил, куда надо ехать и когда. Но все само собой выяснилось на второй день. Оказалось, в Михайловке, где, кстати, в ту пору числился в командировке Чередняк, у него знакомый в автомотоклубе. Или даже родич. И не простой там инструктор или преподаватель, а сам директор.
Директор оказался не из тех, кто безоглядно верит родственникам или друзьям. Он долго расспрашивал меня обо всем, что никакого отношения не имело к шоферству, потом сказал:
«Очень хочешь быть водителем?»
И я не стал кривить. Говорю: «Всяко бывает. Иной раз думаю, что жить не могу без баранки. А когда посмотришь, как бедные шофера кукуют среди дороги, думаешь: «Да пропади все пропадом! Уж лучше в гараже вкалывать!»
«Молодец! – неожиданно похвалил меня директор. – Не люблю глупого патриотизма».
Он какое-то время помолчал, а потом, когда я уже выходил, сказал оставшемуся в кабинете Ивану Палычу:
«За такого и грех на душу взять не тяжко».
Всю жизнь я очень осторожно воспринимаю похвалу и вживаюсь в нее, как в болезнь, которую хотя и можно терпеть, но лучше от нее избавиться. Похвала даже мне кажется взяткой, которую, если возьмешь, то наверняка не задаром.
Стоя в коридоре, я размышлял. Зачем, собственно, брать за меня на душу грех? Неужели я недостоин быть шофером? Урод, что ли, тайный? Ноги у меня там нету или руки, а я это ото всех скрываю.
И сразу мне разонравилось все: и двор, в котором полно машин, да не простых там «зисов» и «полуторок», а «студебекеров», «шевралетов», «доджей», «фордов», «ситроенов», «интеров», «оппель-блицев», тех же «ренаулей» и даже таких, которые носили чистые женские имена, как «джемси», и классы, на стенах которых развешено великое множество плакатов, изображающих автомобиль в разрезе; и сам директор, поначалу сведший в узелок губы, все время косивший на свой блескучий галстук.
И я уже было собрался пойти и сказать директору, что не хочу быть шофером, раз это все так сложно и за меня надо чуть ли не голову подставлять.
Но в это время кто-то заглянул в кабинет и оставил дверь приоткрытой и я невольно услышал, о чем говорили Иван Палыч и директор.
«Башковитый он больно, Семеныч, – сказал Чередняк. – Жалко, что только ключами-гайками звенит. На инженера бы его выучить».
У меня вспотели ладони! Вот это здорово! Планирует одно, а заставляет делать другое. Спрашивается, зачем он меня чуть ли не гонит силком в то проклятое педучилище?
«Он, знаешь, – продолжает «заливать» Иван Палыч, – и меня по смекалке давно за пояс затыкает».
Лукавил Чередняк, подлукавил ему и директор:
«Он мне тут как сказанул, я тоже «искру пустил через шатун». – И я догадался, говорит он, что, мол, омягчел, сдался, что ли.
– Так что она в левый баллон ушла!»
Тут оба рассмеялись. Видимо, за этой, в общем-то не очень мудреной шоферской шуткой крылось что-то для них двоих ведомое и, может, даже памятное и дорогое.
А через полчаса я уже, с запиской директора, стоял перед инструктором по вождению – личностью явно подозрительной и уж наверняка навсегда уверовавшей, что научиться ездить на машине так, как это делает он, конечно же невозможно.
Звали его – приглазно – Илья Ефимыч, а – заглазно – Прыг Скок. И эта кличка ему удивительно шла. Он действительно не ходил, а, кажется, прыгал, как необредший прыти кузнечик.
«Опять аристократ?» – спросил неизвестно почему он, но все же водительское место уступил. На том же самом «ренауле».
Ездить я, можно оказать, выучился неожиданно. В бытность слесаря автоколонны. Слесарь, да еще ученик – это человек не только на подхвате, но и тот, кем можно любую «дыру» заткнуть. Кто-то еще откашливается, чтобы «Эх, ухнем!» запеть, а ты уже спину готовить должен, чтобы все самое тяжелое по ней поерзало. Ученик – это все равно, что салага на корабле.
Вот и меня в ту пору гоняли, как «соленого зайца». И туда сходи, и оттуда то-то принеси, и затем-то сбегай, А один раз додумались послать в Воронежскую область за картошкой. Не одного, конечно, а баб из бухгалтерии штук шесть и вулканизаторщика дядю Мишу впридачу, видимо, по роду своей профессии, на всех кричавшего: «Чего ты там резину тянешь?»
Поехали мы на сердечном «зису» – машине плохонькой оттого, что уже изношена вдребезги и – почти с таким же – вечно хворым шофером Терентием Иванычем. Вот фамилию его я только запамятовал.
На Терентия Иваныча «катили» баллон все, кому не лень. Дезертиром в глаза называли. И это все, может, оттого, что с виду у него не было отмечено никакого уродства и тем не менее в тылу он оставался как инвалид. Даже пенсию получал.
Так вот в тот раз вид его мне сразу не понравился. Какая-то прожелть в лице появилась. Сквозь землистость проступила.
Дорогой туда он несколько раз останавливался и, как говорили языкатые конторские бабы, «машину животом изучал», то есть прижимался боком к крылу и так, позеленев, стоял несколько минут. Потом вновь лез в кабину.
Словом, до Борисоглебска мы, в конечном счете, доехали. Потом свернули в какую-то деревню, не очень близкую, но все же доступную односуточной езде по бездорожью. Там купили картошки и назад поворотили.
И вот тут-то все поняли: не притворялся Терентий Иваныч. Чуть ли не на каждом километре он блевать останавливался. Сперва из него несло чем-то живым – едой непереваренной, потом тянкая слюна пошла, а за нею – желчь.
Ну, думали, теперь, когда все уже вынесло, может, угомонится. А его, уже перед Борисоглебском, кровью рвать начало.
В больнице, куда он с горем пополам довел машину, его сразу в операционную отнесли. А часа через три, которые мы протолкались в больничном дворе, вышел к нам врач и, отирая руки о длинное полотенце, большую часть которого несла за ним сестра, сказал:
«Язва у вашего товарища! – и уточнил: – Прободная».
Пока бабы поохали, а мы с дядей Мишей покурили, он и сказал:
«Ну вот, дотянули резину. Говорил, нечего в глухомань забираться. На грейдере она бы ни в жизть не пропала бы».
«Да не «пропадная», – пояснил ему я, невесть где узнав, как «кличут» человеческие язвы. – А «прободная», стало быть прохудившаяся. Ну как, скажем, камера, если ее ненароком заденешь монтировкой».
Теперь дядя Миша понял и сказал:
«В общем, Терешка отскакался. А теперь мы сигать зачнем. Как до дому-то добираться будем?»
Ну тут я, понятное дело, со своим предложением. Мол, чего думать-гадать, надо в Сталинград депешу «отсобачить», чтобы другого шофера прислали.
А мне, говоря откровенно, это было особенно «в жилу», хотел я в Борисоглебское летное училище наведаться. Может, устрять учиться удастся. Страсть не волокло идти в педтехникум.
И быть бы по-моему. Но тут две местные бабы возле наших конторских «разбазарились». О том, о сем беседу вели, потом до погоды добрались. И одна – коротышка с вислым животом – говорит: «А знаешь, морозы сильные ожидаются».
Услыхали наши бабоньки про морозы, заголосили. Жалко картошку стало. Вернее, денег, которые за нее отвалили.
И задолдонили в один голос: «Гони машину сам!»
Легко сказать – «гони». Прав-то у меня нет, да и за руль я только у стоячей машины садился.
А бабы и слушать мои возражения не хотят. Особенно жена начальника эксплуатации Клушка. Вообще-то, ее Феклой зовут. А я ей такое прозвище привинтил. Сначала Феклушкой величал. А потом – «фе», как-то само собой отпало, тем более, что страшно она на клушку была похожа. Куда бы не села, все узгендиваться норовит.
И вот Клушка, видимо посчитав, что она тут старшая и главная, почти приказала:
«Садись и – гони!»
И я «погнал», только ее саму из кабины в кузов. А рядом с собой дядю Мишу посадил. Все же спокойнее на душе, когда под рукой хоть и не шофер, но все же человек, имеющий отношение к одной из частей машины.
Раза три я с места тронуться не мог. Мотор у меня глох. А на четвертый все же поехал. Потом, попилив на первой, на вторую перешел. А там и на третью…
Словом, километров через десять я, как заправский шофер, и на пониженную и на повышенную передачи с двумя выжимами сцепления «ходил».
Ночью, ожидая мороза, бабы по всему кузову разместились так, чтобы собой занять как можно больше места и таким образом прикрыть картошку.
Но мороза в ту ночь не было.
Так – потихоньку – и дошкондыбали мы до Сталинграда. И вот что интересно, ни одна милиция нас не остановила. Но это, может, потому, что, завидев автоинспектора, мои бабы начинали петь революционные песни. А разве, видимо, думали «гаишники», запоешь, когда тебя везет соплезвон, не имеющий прав.
А после этого случая, походив с полмесяца в героях, в гараже саданул я тем же «зисом» полуторку, на которой сам начальник езживал, как на выездных лошадях.
После этого случая мне не так часто ездить приходилось. Но и этого малого хватало, чтобы навык приходил. И теперь я был готов к любой каверзе инструктора по вождению. Тем более, что и «ренауль» у меня мурлыкает, как кошка, которую я глажу по шерстке.
Комиссию по приему экзаменов ждали с трепетом и нетерпением. С трепетом потому, что буквально накануне два курсанта, говоря военным языком, из строя вышли. Только не просто вольно погулять, а в больницу угодили. По глупости, конечно.
А было так. Утром завели старого «зиса», который, наверно, помнил песенку самых первых шоферов:
Крутится-вертится шар голубой,
Были б шофёры довольны собой,
Были б дороги, да новенький «зис»,
Чтоб настроенье не падало вниз.
Словом, завели этого, как тут звали «два раза ветерана и семь раз инвалида». Работает, однако, он как часы: «Чах, чах, чах».
И вот, когда подняли ему капот, чтобы увидеть, как там все взаимодействует, один – самый востроглазый «курсач» – по фамилии Смусь, непорядок раньше других заметил. Видит, мотор, в общем-то, работает, а вентилятор, словно его это не касается, стоит себе, только малость подрагивает.
И вот решил Смусь ему помочь в работу включиться и – этак щелчком по «затылку» – шлеп!
А тот – в ответ – хряп – и оттяпал Смусю палец!
Слабонервные поохали, зубоскалы посмеялись, а – беспалого – Смуся увезли в больницу.
На второй день пришли все к этому «зису», опять его завели.
Теперь те, кто вчера видел, чем шуточки с вентилятором кончаются, подальше от работающего мотора держаться норовят. А один, которого почему-то звали двойной фамилией Коркин-Ёркин. А может, это была его кличка, врать не буду. Словом, он не видел этой вчерашней истории, поэтому спросил:
«Как же его, дурака, угораздило?»
«Да вот так же, – ответил ему Ходырин – курсант, прозванный Шатуном, видимо, за то, что был страшно прыткий. – Завели мотор, а вентилятор, так же как сейчас, стоит. Он взял да и вот этак щелкнул…»
Угораздило же Шатуна показать, как все было. И ему вентилятор отхватил палец.
А вечером в автомотоклуб начальник НКВД наведался. Сперва с курсантами разговаривал так, словно пришел тоже шоферскую науку на зуб попробовать. А когда все поверили, стал потихоньку выуживать: «А не говорили ли Смусь с Ходыриным, что не хотят в армии служить?»
И тут я сразу «смикитил» – членовредительство он им «шьет». И горе будет, подумал, если кто-то ради красного словца чего-нибудь шлепнет непотребное.
Так вот над Шатуном никто не охал, а только смеялись, когда он, сердечный, уже беспалый – пока не приехала «скорая», по двору как угорелый носился.
И вот только после того, как эти двое «вышли из строя», наконец окончательно решилось то, что все еще было под вопросом.
«За Ходырина пойдешь, – сказал директор. И добавил: – Повезло табе!»
Не знал я, что на чужом горе начну свою шоферскую биографию.
А тем временем староста нашей группы – тот же Коркин-Ёркин – собирал оброк. На банкет. До войны только за одно это слово морду бы набили. А теперь произносят его нежно, как доброго деда Мороза, который и среди лета носит детям подарки в виде розовых листков картона, именуемых стажорками.
Я отказался вносить деньги по двум причинам. Во-первых, их у меня не было. А во-вторых, я подумал: «За что же мне задабривать комиссию, если я не все, то уж наверняка порядочно знаю из того, что написано в учебнике шофера третьего класса?»
А тут еще рассказали мне порядок, который установился при сдаче экзаменов. Спервоначалу, как правило, несколько человек «плавают», как рыба-дельфин в океане. А потом, когда комиссия уже перекочует в другое место, едут следом за ней, холуйствуют, упрашивают, унижаются.
«Нет, – думал я про себя, – если осекусь, больше в жизни не пойду сдавать!»
Словом, денег я не дал.
«Ну что ж, – сказал мне на это староста. – Долго тебе еще придется искру в баллоне искать».
Встречали комиссию на дороге, что вела из Новой Анны. Экзаменаторы, по слухам, ехали оттуда. Почему, никто не знал точно, откуда они припожалуют? Потому что тогда пропадал элемент внезапности, и все сводилось к обыкновенному рядовому событию, ничем не памятному тем, кто навек свяжет себя с профессией водителя.
Встречали комиссию почти все машины автомотоклуба. Директор был в новом костюме и белых, освеженных зубным порошком, тапочках, подчеркивающих довоенную моду. Приоделись и другие преподаватели и инструктора.
Зато курсанты были одеты в разномастное, где преобладал, однако, защитный цвет.
Томились больше, чем полдня, а комиссия все не появлялась. Несколько раз на станционную будку бегали звонить в Новую Анну. Оттуда, радостными голосами свободно вздохнувших людей, говорили: «Уехали еще утром!» Но – не знали куда.
Дорога из Новой Анны до Михайловки безлесная, не то заблудиться, спрятаться от посторонних глаз некуда. Тогда гикнул директор добрых молодцов на мотоциклах, дал им задание не только проскочить всю трассу, но и обшарить к ней прилегающие лесопосадки и балки, в которых была растительность.
К вечеру они явились запыленные, усталые, но счастливые. Им удалось напасть на след комиссии. Она сделала «привал» в Панфилове.
С этим поселком у меня тоже воспоминания связаны. Тетя у меня там жила. Лелей ее звали, хотя по паспорту она была Алевтиной. Так вот рядом с Панфиловом было сельцо, которое Америкой называлось. Вот в этой Америке и поджидал меня случай проверить бойкость моего пера. Там жил дядя Андрей, который, как говорили все вокруг, «умирал» за тетей Лелей, а она, в свою очередь, «с ума сходила» по какому-то Сереже, вернее, Сергею Дмитричу. И вот оба – дядя Андрей и тетя Леля «нанимали» меня пряниками, конфетами и прочими сладостями, чтобы я им писал любовные письма. Не знаю почему, но они решили, что я в этом деле понимаю толк.
Только потом мне стало ясно, зачем они это делали. Им нужно было изменить почерк до неузнаваемости. И для этой цели моя «куриная лапа», как нельзя, подходила.
Весь этот, как мне тогда казалось, сложный узел развязала война. Дядю Андрея убили в бою в июле сорок первого, а тетя Леля вышла замуж за Григория Позирайло – председателя местного сельского Совета и из-за какой-то порчи оставшегося в тылу.
Так в тот день мы и не встретили комиссию. А с рассвета на вторые сутки возобновили дежурство на дороге.
Но комиссия приехала только через неделю и не из Панфилова, как все предполагали, а из Серафимовича. Как она там оказалась, понять трудно. Ведь единственная дорога патрулировалась денно и нощно.
Зато работать комиссия стала сразу энергично, толково, и я уже было подумал: клевещут люди на этих неутомимых искателей шоферских талантов. По-моему, спиртное им чуждо и даже противно. Вон какой свеженький председатель. Только новым ремнем похрустывает. А на щеках румянец отухать не успевает. От прекрасных ответов «курсачей».
Да и двое других членов комиссии явно в порядке.
Бойко, с небольшим налетом арапства, отвечал на все вопросы сын председателя какого-то колхоза по фамилии Бешнов. Его слушали со вниманием, словно он рассказывал о полете на луну.
«Ударному звену», как назвал директор тех, кто хорошо учился или просто мог «залить берега» хорошо подвешенным языком, наподобие Бешнова, вопросов в основном не задавали. Оно шло особняком и говорило о своих дальнейших планах с откровенной уверенностью, что уж чего-чего, а права-то шофера они получат.
Но наступила пора «середнячков». Этим «корочки» только снились в счастливых снах. И сидели они на экзаменах плотной группкой у самой дальней стены, выпустив вперед «безнадежных», которые, думая, что можно надышаться перед смертью, с упорством зубрили, листали спрятанные между колен учебники и бубнили какие-то так и не дошедшие до них мудрости устройства автомобиля и правил движения.
«Плавают» «середнячки», даже «ныряют», кстати в те же учебники, что держат в упрятанных между колен руках, «безнадежные». Но оценки еще идут сносные.
И речи иногда проскакивают: мол, сядет за руль, всему научится.
Вот, думаю, лафа с такой комиссией. И пожалел тех двоих, кому чуть ли не накануне пальцы оттяпало. Не иначе, в «хорошистах» они тут оказались бы. Из-за любознательности.
И только я так подумал, как тот самый майор, что тлел румянцем и улыбку с губ сдаивать не успевал, внезапно насупился, словно Поелозин, говоривший о роли коленчатого вала, нанес ему личную обиду.
«Хватит! – прихлопнул он ладонью по столу и спрашивает: – У тебя в ноздре щекотно не становится?»
Тот – простяга – оробело признается, что нет, хотя, если надо для дела, он и чхнет.
«Так вот, – продолжает майор, – долго я тебя слушал, а так и не понял, про коленвал ты говорил или про полуось. Где стоят дифференциалы?»
Поелозин молчал.
«Хорошо, что ты еще в тупик себя не загнал, – сказал майор. – Хоть выход есть».
«Какой?» – наивно спросил Поелозин.
«В твоем положении надо спрашивать: «Где?» – и указал на дверь. – Придешь в следующий раз!»
После первого «завала» наступила тишина, словно все остальные «рисковые ребята», как они о себе говорили, смачно внося деньги на банкет, разом поумирали.
Только было слышно, как один член комиссии – тоже майор, только более бледный, чем председатель, и одетый в поношенную, этакую зануждалую форму, куря, потихонечку, бесслюнно отплевывал, видимо, цеплявшиеся за язык табачины.
И в этот момент в класс влетел запаленный Бекешин.
Кто такой Бекешин – надо сказать особо. Это, считаю я, до сих пор прирожденный скоморох. Клоун да и только. Я не помню ни одного человека, чтобы тот обиделся на его шутки, которые были далеко небеззубыми. И вот влетел Бекешин и воскликнул:
«Доигрались! Достукались! Докатились!»
«Что случилось?» – свел было в неудовольствии брови председатель комиссии.
«Я же знал, чем все это кончится!» – не отвечая, продолжал Бекешин.
«Ну чего ты причитаешь, как поп над кадилом?» – воскликнул директор.
«Гляньте! – указал Бекешин за окно. – Мистер Интер с мадам Студебекер негритенка прижили!»
И все, кто был ближе к окнам, увидели, что во дворе стоят вымытые по случаю приезда комиссии «интернационал» и «студебекер», а рядом с ними неизвестно куда ездивший, черный от грязи «виллис».
Первым засмеялся председатель комиссии, а за ним, получив такое одобрение, и весь класс.
Бекешин и отвечал как артист. И комиссия смотрела на него с таким же умилением, как в свое время старый Державин на юного Пушкина. Он и ногу по-пушкински отклячил.
Ну, думаю, вконец отмякла комиссия, теперь и «безнадежные» попрут. Косяком.
Но не тут-то было. Стоило только Незнамову попробовать опровергнуть свою фамилию арапством «фаворитов», как председатель комиссии тут же ему хвост прищемил.
«Так что такое явление шимми?» – спросил.
Начал тот «экать» и «бэкать», словно его везли по ухабам.
«Ну что ж, – сказал он Незнамову. – Пропой: «Я вернусь, когда растает снег» и – готовься. И на второй день зловредная леди Шимми, – подыграл он Бекешину, – будет требовать, чтобы знали ее явление».
И вот сразу после четырех «завалов» настал и мой черед.
А перед этим, я заметил, директор несколько раз прихилялся к майору-председателю и что-то ему шептал, кивая в мою сторону.
К моему удивлению, мне предложили сесть, хоть все другие отвечали стоя. И начал говорить, вернее, задавать вопросы, тот, другой, я бы сказал, менее яркий, что ли, майор.
«Какой автомобиль должен первым поехать на зеленый свет?» – спросил он, подсунув мне доску с «разводкой».
Бегло взглянув на доску, я моментально ответил:
«Никакой!»
Капитан, все время сидевший поодаль и, кажется, решивший промолчать все экзамены, подошел поближе.
«Что же, так все и будут стоять?» – спросил майор-председатель.
«Нет, – ответил я. – Поедут. Только трамвай и троллейбус. А автомобилей тут попросту нет».
Капитан усмехнулся, а майоры сделали вид, что никто и не собирался меня «покупать».
Не знаю почему, а я всю жизнь любил, когда меня спрашивают. Может, это потому, что одно время я учился в базовой школе при педучилище. Там, помимо основного учителя, к нам почти на все уроки «подучилки» приходили – студентки педучилища. Уроки вели. Всяк, конечно, по-своему. Но одно было, можно сказать, шаблоном, это, когда они, зайдя в класс, знакомились с нами, может, в сотый раз. Но это было нужно не нам, а тем, кто отметки «подучилкам» за их уроки ставил.
И вот была такая «подучилка с педучилки», как мы ее прозвали – Белла Васильевна. Волосы она еще на голове французской булочкой укладывала. Так вот она всегда в таком галопном темпе знаниями нас начиняла, что, честно говоря, у меня голова в карусель мысли закруживалась.
И вот как-то влетает она в класс и – с порога:
«Ребята, сейчас у нас будет урок русского языка!» Мы – пообжимались, мол, какая нам разница, хоть французского.
«Мы с вами разберем повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения».
Не успела она передохнуть от столь длинной фразы, как я уже руку поднял.
«Что ты хочешь сказать?» – на том же «аллюре» спросила она.
«Барышня! – обратился я к ней. – А что такое восклицательный знак?»
Класс сперва оцепенел, потом, чуть подхихикнув «галеркой», вдруг расхохотался во весь голос.
Запрыскали, слышал я, и другие «подучилки», что сидели на последних партах, а наш основной учитель Зиновий Андреич сказал:
«После урока зайдешь в учительскую».
«Вот, – думаю, – влип! Другие будут на перемене футбол гонять, а я очередную нотацию слушать». Поэтому спрашиваю:
«Может, мне сейчас извиниться?»
«Перед кем?» – иезуитски спросил Зиновий Андреич.
«Ну вот, перед ней!» – кивнул я в сторону Беллы Васильевны.
«А кто она?» – уставился он на меня, и я понял – теперь уже непременно поволокет к директору, раз глаза оярчил.
«Барышня!» – рубанул я.
У директора, прикашивая глазом во двор, где – без меня – не клеилась игра у нашего класса, я объяснил все просто, что «подучилка» с нами не познакомилась. Как же ее еще звать, если не барышней, тетенькой, что ли, или, гражданочкой?
«Была бы моя воля! – воскликнул Зиновий Андреич. – Я бы тебя научил уму-разуму!»
«Ну чего же, – на это ответил я, – Только спасибо скажу, если у вас что-нибудь получится».
Директор усмехнулся в сторону, чтобы не видел мой учитель, и сказал:
«Ну иди, а то твой класс уже два гола пропустил».
И вот сейчас влилась в меня такая же шалость. И пришла она, может быть, потому, что я почти наверняка знал, что меня зарубят.
Комиссии конечно же известно, что только я один не дал денег на банкет. Но я решил держать понт, как говорили до войны на ней улице пацаны, которые знали в этом понятии толк.
И тогда майор-председатель спросил:
«Значит, все знаешь?»
Я ответил со средней степенью дерзости:
«Все даже вы не знаете!»
И тут выхватился из-за своего укрытия капитан. Я даже думал, что он впляс решил пуститься, такую принял спервоначала позу.
Фавориты захихикали. Особенно Хомуляк. Был у нас такой «курсач», имеющий не открытый, как у многих, а какой-то «засадочный» смех.
А потом состоялся поединок. Я – противостоял троим. И не просто таким же зеленым, как сам, или даже более зрелым, но не матерым, как преподаватели и инструктора нашего автомотоклуба, а самим членам комиссии области.
И на все вопросы я отвечал четко, без запинки. Нет, я не хочу сказать, что в совершенстве знал автомобиль и – в придачу к нему – правила уличного движения. Но мне, видимо, было легче, чем другим, потому что я, уже сравнительно долгое время, слесарил и все детали, о которых тут шла речь, по нескольку раз не просто перебывали у меня в руках, я их заменял, ремонтировал, подгонял.
И вот когда эта настоящая осада закончилась и все трое вытерли со лбов испарину – майор-председатель вдруг сказал:
«Давай договоримся, если правильно ответишь на мой последний вопрос, сразу права выпишу!»
«Я, извините, все же хотел бы, – возразил я, – получить, как и все, стажорку».
«Но ты же все знаешь!» – это уже выщерепился тот самый капитан, который «разошелся» к моему «избиению» и теперь, как я понял, не знает удержу.
«Нет! – возразил майор-председатель. – Только права!»
«Ну давайте свой вопрос», – уныло проговорил я, надеясь, что на этот раз они меня прижмут к стенке. Да и то вдохновение, с которым я только что отвечал, прямо скажем, иссякло.
«Ну так вот, – продолжил майор. – Едешь ты, скажемте… – он, видимо, поискал подходящее слово и остановился на том, за которое мне чуть не попало в школе, – с барышней. И тебе надо срочно отлучиться из кабины. Например, посмотреть: змейкой след после тебя или ужом».
Он оглядел окружающих, видимо, смотря, какое же впечатление производит его такая образная речь, и продолжил:
«Так вот что ты должен сделать, чтобы знать, что твоя, – он опять споткнулся на слове, – «барышня» сидит и не рыпается?»
На этот раз стали подхихикивать и «срезавшиеся» на простачке. Даже можно было подумать, что они запросто ответят на этот для меня-то, честно говоря, несложный вопрос, потому что он был на сообразительность.
«Не подсказывать!» – возвысил голос майор, думая, что кто-то из «срезавшихся» мог мне помочь.
«А нам тоже выпишите?» – осмелел белобрысый «курсач», который не знал, для чего у машины кардан.
И майора это, видимо, задело:
«Скажи!» – внезапно согласился он.
Белобрысый замялся.
«Мне можно?» – спросил я и, откровенно признаюсь, с нарочитой медлительностью, чуть ли не с зевком, сказал майору, что все это проще простого. Я заставлю «барышню» подержать ногу на педали тормоза. А зайдя за машину по своим делам, буду видеть, как добросовестно она это делает, потому что при нажатии должен гореть стоп-сигнал, или «стопарь», как говорят шофера для краткости.
Прав мне, конечно, не выписали и даже стажорки не дали. Просто – все трое – позубоскалили по поводу моей шустрости и майор-непредседатель сказал:
«Я бы на твоем месте из слесарей не уходил».
«Почему же?» – полюбопытствовал я.
«Тут ты – фигура. А шофер из тебя выйдет или нет, еще неизвестно».
Комиссия уехала на второй день. Вместе с нею на двое суток исчезли директор и три преподавателя.
«Фавориты» смотрели на меня с болезненной снисходительностью. Видимо, то, что я ответил на все вопросы без запинки, на них не произвело впечатления. Ибо они-то уже были при стажорках, и их, как невест, разбирали «сваты» – представители автоколонн и других организаций, где водилась техника. А я уныло бродил по двору автомотоклуба, потому что заняться мне было решительно нечем.
Тут-то и явился Иван Палыч, запропавший в знаменитых Дубровских лесах, что под самыми Вешками, из-за поломки своего «жоржика». Так он звал «интернационал».
Я вкратце рассказал ему обо всем, что меня касалось, и он – заочно – упрекнул директора:
«Что же он меня так подвел?»
«А может, не он, а я? – вырвалось у меня. – Ведь это только вы уверены, что сдать экзамены мне ничего не стоит».
«Брось! – отмахнулся Иван Палыч. – Думаешь, тот раз «лоща» я ему подсуропил, когда говорил, что я у тебя учусь? Нет. Так оно и есть».
Я спорить не стал, хотя знал, что учиться у меня решительно нечему.
Но директор привез мне права. Я даже растерялся. Значит, сдержал майор-председатель свое слово.
А потом я держал экзамен в педучилище. И здесь моя форма произвела впечатление, хотя носить ее так долго после того, как ушел с моря, было неприлично. Тем более что я так и не объявился в военкомате. Сначала думал – успеется. Потом кто-то припугнул штрафом за то, что слишком долго не шел, чтобы стать на учет.
Словом, утаил я от военкомата, что школу юнг закончил. А через месяц, наверно, или чуть больше, прошел медицинскую комиссию – уже как приписник – и она признала меня годным для службы в армии.
«Вот тебе и компенсированный порок! – думал я. – И уширение пахового кольца, впридачу с незарощением дужек позвонка. В одном месте – это почти трагедия, а тут ничего даже не было замечено!»
И я вспомнил мичмана Храмова, прав, он, наверно, что много бездельников развелось на флоте. Вот нас и шуговали оттуда под звон позвонков.
Трудится я пошел все в ту же колонну «Сталинградснабстроя», в которой когда-то слесарил.
Потешон по-прежнему был там же, только теперь работал начальником эксплуатации. Нюська неожиданно вышла замуж и муж ее – завгар Горностаев – немедленно снял ее с машины и перевел в диспетчерскую.
На меня с первого дня он глядел косяком. Может, кто трепанул о моих о Нюськой отношениях, хотя в них не было ничего такого, за что можно коситься на – неверную – ее и – распутного – меня. Подумаешь, поцеловались разок.
Сначала меня дальше гаража не пускали. Потом в подмену определили. Пока я машину приведу в божеский вид, хозяин является. Но один раз я все же выехал. На «студере», «студебекере», стало быть. В его кабине чувствуешь себя плебеем, которому достался царский трон. Дорогу под колесами видишь не ближе десяти метров, поэтому рулишь больше по интуиции, чем по глазомеру.
Послали меня привести какие-то детали из снабсбыта. Ну, еду я, естественно, с шиком. Как-никак, водитель, а не халам-балам. Даже, кажется, люди на меня на перекрестках с уважением посматривают. Подруливаю к переезду. Шлагбаум закрыт, поезда ожидать придется, пока пройдет. Впереди – козявкой мне кажется – полуторка с хиленьким кузовком.
Ну, конечно же, решил я всем показать класс. Вот стал почти весь кузовок полуторки из зрения уходить, а я все еще не торможу. Хочу так остановиться, чтобы скрипнуть колодками, как на корабле кранцами.
А перед тем, как подъехать к переезду, я, понятное дело, опробовал тормоза. Они держали «смертельно».
И вот – жму на педаль, а она – ни с места. Словно, кто под нее дрючок подсунул. И в это самое время – удар. И – щепки в разные стороны. И от кузова полуторки, и от шлагбаума, который тоже был деревянным. А тут – поезд. Наверно, сантиметров десять не хватило, чтобы он зацепил полуторку.
Выскочил я из кабины, сперва к своему «носу» кинулся. Гляжу, у «студера» на буфере даже царапины нет. А шофер – с полуторки – бегает вокруг нее как полоумный. Причитает рядом и охранница переезда.
Только позже я узнал, что у «студера» была одна американская причуда. Он – при заглохшем двигателе – мог тормозить только один раз. А потом получалось то, что случилось у меня. И потому шофера постоянно прогазовывали, когда держали скорость на нейтралке. Мне бы спросить об этом загодя, а я на интуицию свою понадеялся. И вот – влип.
Водитель с полуторки – парень из колхоза – чуть ли не плачет.
«Что же мне делать?» – неизвестно кого опрашивает.
А «смотрительница переезда», собирая красного цвета щепки, все, что осталось от шлагбаума, все еще причитала, пока не предъявляя мне претензий.
Видимо, во все времена, при авариях главными являются прохожие, которые оказываются рядом. Они обычно лучше всех знают, что произошло и какой реальный выход. И вот усатый дядя, протиснувшись сквозь толпу к нашим автомобилям, присоветовал:
«Тащи его к себе в гараж, а там разберетесь». И, как потом оказалось, подсказал он тот выход, который был верным. В гараже стояло несколько списанных полуторок с еще добрыми кузовами. Вот один из них мы ему и поставили. Вытесали из лесины и шлагбаум. Только покрасить не успели. Но и за него та тетка меня, как бога, благодарила.
«А я в суматохе, – призналась, – и номера твоего не записала».
А тот шофер с полуторки – Леша его звали – не раз к нам еще в гараж заглядывал. Самогонку привозил. Так мы его тогда подвыручили с кузовом. Вот и впрямь, нет худа – без добра.
Но вскоре приехал из своей, как он говорил, «бессрочной лесной командировки» Иван Палыч и увез меня с собой.