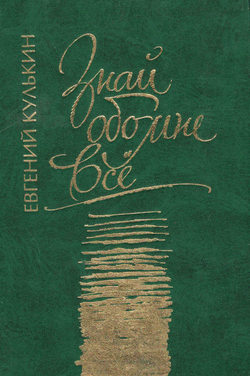Читать книгу Знай обо мне все - Евгений Кулькин - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Когда судьба в одном экземпляре
Генка, будь человеком
Повесть в письмах
Дома
ОглавлениеВсе то время, что я жил в Атамановском, меня не покидало чувство, что я приехал к тетке погостить и вот-вот должен вернуться домой. Это чувство было у меня и тогда, когда – в одной стороне – постоянно гудело, говоря, что фронт где-то совсем рядом, а Совинформбюро сообщало тревожные сводки из Сталинграда.
Но настоящая тоска по дому началась у меня тогда, когда стало известно, что в подвале универмага был пленен Паулюс. Я страшно переживал, что не было меня в ту минуту там, где свершилось самое главное правосудие моего оборванного войной детства. Мне почему-то казалось, именно Паулюс виноват, что немцы пришли на Волгу и убили там таких дорогих мне людей, как Иван Инокентьевич Федотов и Савелий Кузьмич. Про Купу я пока молчал, чтобы, как говорит тетка, не связал языком «петелку, с какой ведут под ветелку». Ей все время кажется, что главные беды идут оттого, что мы слишком много некстати говорим.
Спервоначалу, когда я загалдился про поездку в Сталинград, Марфа-Мария долго меня отговаривала, просила подождать здесь маму, которая, как только наступит замирение, так почему-то она и писала, не «Победа», а «замирение», приедет и заберет меня, чтобы и в дальнейшем не был без призора.
Милая мама! Она все еще думала, что я тот, прежний, хотя и шаловливый, но все еще беспомощный, не умеющий у кого-то что-то попросить и, упаси боже, украсть. Не знала она, что жизнь научила меня всему. Нет, я не воровал. Это точно. И, видимо, никогда не пошел бы на это. Но мог. Даже запросто. Зачем кривить душой и показывать, что чист, как слеза младенца.
Не знала она и многого другого, что вошло в мою жизнь с черного входа и стало доступным только потому, что пришла эта чертова война и очернила своей пагубой светлую безмятежность.
Отговаривать меня тетка перестала после того, как у соседей Норма хлеб ворованный обнаружила.
«Спалят они нас! – запричитала она. – Сожгут. Гляди, вон от Ермилова взгляду чуть солома не дымится. Нет, не простят они нам с тобой поспешливого гамоза.
Я не стал уточнять, что она имела в виду под «гамозом», но понял, мало хорошего в таком соседстве. Но куда денешься, изба не телега, ее в другое место не сразу перевезешь.
«Ничего, – сказал я, – вломят ему под завязку да всклень, и взором живо поостынет. Это он сейчас широкий, пока ворота без запора гуляют».
Наверно, я дюже складно сказал, что тетка даже рот разинула.
«А ты говорун», – примолвила.
Но была еще одна горечь, которую мне предстояло раскусить, как зернинку красного перца-стручкаря, что в борще плавала.
Ведь я, собственно, не знал, куда еду. Дом наш наверняка не уцелел. Слишком близко стоял он к хате Савелия Кузьмича, и его, конечно же, исшматовало тем памятным взрывом. Но улица-то наверняка осталась. А на ней – уйма знакомых. Было, конечно. Но, может, и теперь кто-нибудь остался. Неужели не приютят? Хотя бы на первое время.
Вот с этими успокоительными мыслями я и ехал в Сталинград. В кармане у меня кроме справки из колхоза лежал еще один документ, который ездил выправлять в район дядя Федя, гласящий, что предъявитель его имярек сопровождает государственную собаку по кличке Норма для лечения в стационаре.
Я к тому времени не знал, что такое «стационар». Но слово мне казалось очень солидным, тем более что, чуть прихватив его краешком, на том документе стояла гербовая печать.
Именно увидев ее, козырнул мне на станции милиционер, подвел к теплушке, в которой стоял гомон, словно в улье пчелином во время взятка, и, чуть отщелив тяжелую дверь, произнес:
«Товарищи, можно с вами двоих… – он запнулся. – Одного, – он окинул меня взором, видимо определяя, как же назвать этого сухолядого парнишку со взрослым, с главенствующими усталыми глазами лицом. А именно таким я себе казался в то время, и добавил: «Гражданина с собакой».
Ему ничего не ответили, только дверь чуть шире приоткрыли.
Взлез я по шатучим – из толстой проволоки – приступкам в вагон и откачнулся, словно мне под нос кочергу раскаленную подсунули. В вагоне-то явно ехали какие-то лазутчики. На плечах у всех погоны. Только, как-то мельком увидел я, ордена у них наши.
Я уже было ринулся к двери, чтобы побежать к милиционеру, как он сам заглянул в вагон:
«Ну разместились? – спросил. – А то Звонарев про тебя спрашивал».
Я знал, что Звонарев – это начальник НКВД и именно им подписана та самая бумага с гербовой печатью, которая заставила милиционера так печься о нашей с Нормой судьбе.
Но меня удивило, что милиционер даже ухом не повел, что перед ним «золотопогонники», как говорили раньше.
Подсаживается ко мне один. Норме кусок мяса на отомкнутом штыке сует. Нашел дуру. Без моего разрешения она к нему и не притронется.
«Гля, ребята! – крикнул он своим спутником совсем невоенным голосом. – И не глядит. – И – ко мне: – Малой, чем ты ее кормишь?»
«Гудзиками жареными», – отвечаю.
«А на чем они растут?» – любопытничает.
Другой, видимо хохол, со смеху давится.
«Вони бегають, як сороконожки!» – объясняет и, отстранив Норму, ко мне пробирается.
«А чего она у тебя может?» – опрашивает тот же, что совал Норме мясо.
«На носу тарелки вертеть», – отвечаю на всякий случай разную глупость, чтобы сойти за дурачка.
«Пустые?»
«Нет, с похлебкой из верблюжатины».
На этот раз рассмеялся плосколиценький боец с раскосоватыми глазами:
«Ну и шутник! – сказал. – Прямо клоун!»
Теперь собрались вокруг нас с Нормой все семеро. Рассмотрел я, что на погонах у одного две звездочки поперек поля привинчены. Лейтенантом его другие величают. А у одного – буква «Т» едва в погон вместилась. Это, как я понял, старшина. А у остальных, кроме одного, лычки пришиты.
Осторожно спрашиваю:
«Это у вас что за род войск?»
«Матушка-пехота! – вздохнул лейтенант. – Царица полей, страдалица лесов, кормилица комаров. – И вдруг догадался: – Да ты, наверно, погонов еще не видел?»
Я кивнул. Теперь стали смеяться все. И у меня отлегнуло от души: значит, это никакие не лазутчики, просто форму новую ввели в Красной Армии.
«Ешь!» – разрешил я Норме. Она с достоинством повернула голову в сторону предложенного ей мяса, одними губами сняла его со штыка и, ловко подкинув, клацнув зубами, проглотила не жевамши.
Перепало и мне.
Ночью в небе еще полетывали самолеты, потому блюлась светомаскировка. Но уже в открытую курили у широко распахнутых дверей, когда гасили фонарь. Видимо, опьяненность Сталинградской победой еще не проходила: и у этих бойцов, что до этого воевали где-то на другом фронте, и у меня, собственно почти не нюхавшего пороха, но почему-то тоже считавшего себя добрым молодцем.
Я долго не мог понять, что же во мне изменилось с той поры, как я притопал в Атамановский и переступил порог теткиного дома.
По-моему, задираться меньше начал. Выслушивать, когда говорили, до конца научился. И перестало тянуть на «подвиги».
Лейтенант, чтобы нас с Нормой никто не обидел на станциях, где поезд стоял особенно долго, выделил в сопровождение бойца с карабином. Он ходил следом и покрикивал: «Посторонитесь, государственная собака!»
Так мы на одной станции и нарвались на пасмурного, как я потом пойму, майора, а тогда я еще не знал, что обозначала большая звезда между двумя просветами.
«Какая собака?» – перепросил он.
«Государственная!» – отрапортовал боец.
Понял я, перебор получился. Майор стал допытываться у бойца: «Как стоишь?» И даже обозвал его «солдатом», когда тот, видимо, не так несколько раз принимал стойку «смирно».
Мы, конечно, дали с Нормой тягу. И не зря. Из кустов я видел, как майор и лейтенанта несколько раз кругом поворачивал.
И дураку стало ясно – кончилась наша вольготная жизнь. Придется «тормоз» искать поуютней, чтобы с дверями был.
Кинулся я вдоль состава и только теперь обнаружил: на всех «тормозах» бойцы с винтовками обретаются. Подошел я к одному: «Дяденька, – говорю, – пусти посогреться, а то со вчерашнего дня не ел».
Не понял он юмора, глаза в кругляши обратил. Ну с таким, понял я, говорить бесполезно.
Побежал я дальше. Там, рядом с главным кондуктором, дедок, смотрю, умащивается. «А нам можно?» – спрашиваю я, боясь ненарочным словом обидеть железнодорожника.
Этот, как в свое время дядя Федя, прежде чем ответить, за кисетом потянулся. Стал тоже вертеть, только не козью ножку, а простую цигарку в палец толщиной. За то время, пока он ее слюньми склеивал, я успел подумать: «Этот не откажет!» Не знаю, почему мне так показалось. Но я горько ошибся.
«Нэ можно! – вдруг сказал главный кондуктор. – Ходи отсель. – И добавил вдогон уже по-русски: – Тут не карусель, чтобы всем голову морочить».
Не понял я, к чему он это все вылепал. Но одно усвоил окончательно: с этим поездом нам с Нормой не уехать. Тем более что тот угрюмый майор все еще вышагивал вдоль того вагона, в котором мы до этого ехали. Но тогда на станциях пустынно не было. Только ушел этот состав, другой заявился. У этого вообще был один тормоз – сзади. А все остальные почему-то крест-накрест забиты досками, словно это были дома, людьми брошенные.
За этим приполз третий. Длиннющий, аж конца-края не видать. И «тормозов» видимо-невидимо, чуть ли не на каждом пульмане или площадке. Краем уха услышал, что этот поезд – сборный. То есть вталкивают в него все, что на станциях или разъездах затарилось или, наоборот, выгрузилось.
Тут-то и заприметил я один порожний вагон. Не знаю, чего в нем пыльное везли, но только я в него залез, как у меня поднялся невероятный чих. Да что там у меня! Норма через минуту или две тоже зачихала человеческим образом.
Выскочили мы с ней наружу. Мысль меня оттуда вымела: а вдруг тут отраву какую перевозили. Мышей или крыс морить. Сейчас, сказывают, они все съедают на своем пути.
Еще раза два пробежав из конца в конец состава, я облюбовал один «тормоз». Правда, без дверей он был и без скамейки, на чем обычно сидят кондуктора и сопровождающие, зато с него можно было перелезть на платформу с песком. Это на тот случай, если Норме приспичит сгонять до ветра во время хода поезда.
Но тут я, наверно, зря беспокоился. Сборный буквально кланялся любому телеграфному столбу, не говоря уж о том, что по часу, а то и больше стоял на каждом разъезде. Но зато с него нас никто не сгонял.
Однако ночь, за которую мы не столь продвинулись вперед к Сталинграду, сколь выдрожали все тепло, что в нас обоих еще имелось, заставила искать более быстрый поезд. И я, на одной небольшой станциюшки, направился к паровозникам. Сперва, чтобы просто руки погреть об выгребленный из топок шлак, а потом – при случае, конечно, – попроситься хотя бы на тендер.
Пацан, чуть постарше меня, помощник машиниста, а может, и кочегар, долго глядел мне в глаза, словно я просил его вынуть из одного из них соринку, потом промолвил:
«Ты знаешь, что такое трибунал?»
Я не ответил.
«Это трое судят, – объяснил пацан, – а отдувается один».
Хотел я было его спросить, зачем он мне все это выдал без сдачи мелочью, да раздумал. Не все ли равно, в какой форме отказ получен.
Но пацан, оказывается, не отказал. Он, как заметил я, выпендриваясь, конечно, передо мной, на одних руках поднялся в кабину машиниста, долго там кому-то что-то кричал, потому, высунувшись чуть ли не до половины туловища, оглядел окрестности и крикнул: «Давай скорее сюда!»
Мы в мгновение ока были уже в кабине.
Там помимо этого пацана были еще двое. Один, с вислыми седыми усами и почему-то в детской панамке на голове, сидел на перевернутом вверх дном ведре и, держа миску на коленях, ел какое-то хлебово. Второй стоял перед ним на одном колене и плел из проволоки какую-то сетку.
«В общем так, – начал пацан, когда я еще не успел поздороваться. – Знаешь, кто такой кочегар?»
На этот раз я и плечами пожать не успел, как он объяснил: «Это тот, кто работает так, что из заднего места дым идет».
Оба, и старик, и тот – помоложе, – что вязал сеть, без улыбки закивали: мол, так оно и есть, существует такая трудная профессия на железной дороге.
«Так вот… – продолжил пацан и вдруг спросил: – Улавливаешь мою мысль?»
Наверно, мысли у него были такие вертучие, как голуби, что через голову кувыркаются в небе. Тут мне просто помогла наблюдательность. В углу я заметил ящичек в дырьях, за которым примелькивала разноцветными боками пара, а может, больше голубей. И все ж я пацана понял и потянулся за лопатой-грабаркой, что стояла прислоненной в том углу, где была клетка с голубями.
«Погодь! – остановил меня вислоусый. – Не егози. Это на ходу нужна потуга. А сейчас можно и повольготить».
Он облизал ложку, которой ел, спрятал ее, как делали в ту пору все, кто носил с собой «личное оружие», за голенище сапога и полюбопытствовал:
«Куришь?»
«Ага! – сознался я. – Но только, когда есть. А когда нету, плюю».
«Ну что ж, – одобрил старик мой ответ, – значит, нечего козами сено травить».
Он дыманул так, что в кабине примерк свет, потом произнес:
«Мулька, сколько будет шестью девять?
Я, наверно, усмехнулся, что пацана зовут таким собачьим именем, на что старик мне сказал:
«А ты молчи, сколь будет девятью шесть!»
Пацан собрал на лоб морщины гармошкой – думал.
«Вот так, – рассудил старик, – как вспомнишь, так ему, – он кивнул на маня, – лопату передашь. А я к тому времени и для него закавыку припасу».
«Однажды – один-один, однажды – два-два…» – пошел вслух долдонить Мулька, а я только теперь по-настоящему расслабился, поняв, что не прогонят.
А в это время тот мужик, что плел сеть из проволоки, выглянул в окно и произнес:
«Сухарь, кажись, сюда чапает!»
Я не знал, кто такой Сухарь, но по голосу помощника машиниста, как я определил должность молодого мужика, понял, что это тот, кого мы с Нормой должны опасаться.
«Может, маслом на порожки хлюпнуть, – предложил Мулька, – чтоб не взлез?»
Старик не одобрил:
«Нехай лезет! – И мне: – Пойди послухай, о чем уголек молчит».
Мы с Нормой выскочили на тендер и улеглись за кучей угля.
«Перфилич! – позвал Сухарь снизу, как я догадался, старика. – Зябнуть я чего-то на тормозе стал. Наверно, до утра тут у вас перебуду».
«Нук что ж, – ответил машинист. – Залазь, у тебя весь поезд в подчинении. И на трубе, коль захочешь, ехать можешь».
«Ну вот мы и прокатились в тепле!» – шепчу я Норме, а сам начинаю вспоминать, где же на тендере металлические приступки, чтобы нам слезть на землю.
А Сухарь, видно, к тому времени влез в кабину, потому как Перфилич прикрикнул на своего помощника:
«Санек, ну чего ты возишься! Дай человеку на что сесть!»
Помощник появился на тендере, погромыхал чем-то тяжелым и ушел. А мне подумалось, что все трое давно забыли про нас с Нормой и сейчас ублажают какого-то своего начальника. Но какого? Может, это старший кондуктор. Тогда последний «тормоз» должен быть пустым. Вот бы разведать.
Дежурный или кто-то другой, видимо, принес жезл, а на словах предупредил, что впереди – в двух местах – меняют пути.
«Значит, пора!» – говорю я Норме и начинаю пробираться в угол, где, как назло, почти доверху насыпано угля. И, как взберусь я туда, меня наверняка заметят стрелки, которые охраняют состав.
И вдруг я услышал голос Мульки:
«Гляди, гляди, бежит!»
«Кто?» – кажется, вырывается одновременно у Сухаря и Санька.
«Ну эти свово не упустят», – говорит Перфилич, видимо тоже выглянув в окно и увидев тех, на кого указал Мулька.
«Вот черти полосатые! – ругается Сухарь и, видимо, начинает вылазить из кабины. – За сколь время один раз собрался проехать в тепле».
«Ну и пусть их едут! – подает голос Санек. – Не надо бы, сидели бы дома, прищемив хвост. А то какая-то недоля гонит».
«Недоля! – передразнивает его – уже снизу – Сухарь. – Делать им нечего. Вот они туды-суды мычутся».
И он пошел, смачно хрустя, видимо, вылупившимся из-под песка гравием.
«Ну не застыли вы тут?» – появилась надо мной голова старика в панамке.
Мы с Нормой снова юркнули в кабину.
«Давай гудок!» – приказал Перфилич Саньку.
Паровоз басовито прогудел.
«Ну чего он там? – спрашивает Перфилич Мульку. – Второй раз туда-сюда проматнулся!»
«Это хорошо, – одобрил он, – жиру скорей нагуляет», – и все трое беззлобно рассмеялись.
Только когда у меня от свидания с угольком чуть не пошел дым из того места, на которое намекал Мулька, он, меняя меня у огненного творила, признался:
«А это я все придумал! Сухарь страсть как не любит, когда кто-то на его поезде проедет. Аж высох от своего зловредства. А мы людей помаленечку возим. Ведь зря сейчас никто не поедет», – совсем по-взрослому заключил он.
Много еще пришлось нам с Нормой сменить поездов, но эту теплую – хотя и не в полной вольготе – ночь я запомнил на всю жизнь. И этих замечательных людей: Перфилича, неизвестно зачем вырядившегося в детскую панамку, Санька, постоянно плетущего мышеловки из проволоки, и, конечно же, Мульку, старающегося говорить по-взрослому мудрено.
…Поезд остановился у Мамаева кургана, и, видимо, стрелок-охранник крикнул откуда-то с верхотуры: «Семафор закрыт!»
Мы с Нормой спрыгнули с подножки «тормоза» на землю. Тут она уже была тронута провеснью и кое-где, под обтаявшим, словно кем обдышанным сугробом, слюденисто поблескивала вода. Но наст еще держал, и мы пошли с Нормой в гору, сперва чтобы согреться, потом, если откровенно, мне вдруг захотелось посмотреть на город с любимой мной в детстве верхотуры.
Идти было трудно, потому что одна воронка примыкала к другой, рытвины шли и вдоль, и поперек, а окопы – разного профиля – чуть ли встречались не на каждом шагу. Где и кто тут держал оборону, понять было невозможно. А вообще-то земля так старательно, хотя и хаотично, была перепахана бранным металлом, что даже не верилось, что на ней кто-то мог уцелеть.
Я попытался представить, как впереди своего взвода, крича что-то своим обугленным ртом, бежал Иван Инокентьевич Федотов. Бежал, может, по этому самому месту и где-то тут споткнулся, вернее, подумал, что споткнулся, а на самом деле упал, сраженный насмерть. «И – не дыхнул!» – говорил раньше о мгновенной смерти Савелий Кузьмич.
Но о нем, как я понял, мой плач впереди.
Мы забрались на вершину кургана. В отмяклом воздухе явно пахло весной. И, видимо, этот дух опушил невесть как попавшую сюда красноталину с единственной заячьей лапкой. Она выхлестнулась из пробитой немецкой каски.
Издали город казался черным крошевом, таким, какое видишь из вагона, когда смотришь под насыпь на стремительно проносящуюся придорожину, усыпанную щербатым щебнем.
Приближенные недалеким расстоянием, стояли обрубки труб завода «Красный Октябрь», а между ними высились обглоданные огнем и металлом уцелевшие корпуса цехов.
И вдруг меня охватил ужас. Нет, я не мог сказать, чего именно испугался. Просто стало жутко от тишины, оттого, что земля под ногой не вздрагивает и не пытается провалиться в тартарары. Все замерло на каком-то отчаянном крике. Ощерилось развалинами, ощетинилось щербатым кирпичом, осклизло выблеснутыми наземь стеклами.
Я не знаю, сколько длилось это оцепенение. Но спугнул его живой гудок. Это, наверно, подал голос тот самый паровоз, который вел наш состав и, одышечно двоша, остановился перед закрытым семафором.
Я сделал глубокий вдох, тряхнул плечами, словно сваливая тот озноб, что угнездился между лопаток и стал медленно спускать вниз.
Сколько тут, действительно, лежало вокруг металла! Вот наполовину разорвавшийся снаряд, как только что выпотрошенный карась. А чуть дальше – пулемет с погнутым стволом. Наверно, про такое ружье, подшучивая друг над другом, говорили те бойцы, которыми командовал Федотов. Вот винтовка, ложа у которой искромсано так, словно его изрубили топором. А это что-то новое: большущая бадейка с железными завитушками. Я потрогал ее рукой, повертел так и этак, но не сумел понять, что же это за штуковина. Явно не цветы в нее устанавливали, хотя для такого обихода она больше подходила. Дна, правда, у нее не было.
Хорошо, что ужас отпустил меня, а то бы я, наверно, умер со страха, когда на ровном месте, вдруг ни с того ни с сего, провалился сквозь землю. В буквальном смысле. Только наступил на что-то мягкое.
Вылез наружу, не затеняя собой, заглянул внутрь. Явно какое-то сооружение. Только подземное. Спустился я в ту яму снова, ход, что вел в сторону, заметил. Протиснулся в него и очутился в довольно просторном помещении. Чиркнув зажигалкой, я осмотрелся. Это был блиндаж, потолок которого составляли накатные бревна, правда подбитые коврами. Кстати, ковры были и на полу, и на стенах. А в углу было свалено несколько пуховых перин.
Норма поскуливала наверху, не решаясь идти за мной без приказа.
В блиндаже я обнаружил три больших кожаных чемодана с разным барахлом, из коего меня заинтересовал только фонарь «Дайман», который – к тому же – светил, и длинный нож с миниатюрной наборной рукояткой.
Посередине блиндажа стояла аккуратненькая печка-«буржуйка», возле которой лежали, сложенные в стопку, бурые – с небольшими блестками – брикеты, с виду напоминавшие уголь, но уж больно легкие, почти невесомые.
Не знаю для чего, но несколько штук я засунул себе в карманы.
Видимо, какой-то запах навеял память о еде, и так засосало под ложечкой, что я даже пожевал свой рукав, чтобы хоть сколько-то осолонить пресную от голода слюну.
Я вылез из блиндажа, закидал вход в него разными лохмытами, что валялись вокруг. Было тут и шинельное сукно, и что-то совсем гражданское. А чуть ниже, с порванной пополам станиной, стоялая пушка. Наверно, артиллеристы протирали ее вот этим хабур-чабуром.
Когда мы уже совсем спустились с кургана, я был вынужден спешно взять Норму на короткий поводок, потому что вокруг натоптанной тропинки, на которую мы вышли, сплошь стояли предупреждающие таблички: «Осторожно, мины!»
А развалины жили. То в одном, то в другом месте поднимался вверх дымок. А из одного подвала, слышал я, даже долетала музыка, наверно там крутили патефон.
Первыми, кого мы встретили с Нормой, были три пацана, лет по одиннадцати, не более. Одетые во все солдатское, они чинно шагали по улице и размахивали руками.
«Откуда вы, ребята?» – спросил я, имея в виду, где они живут. И те именью так и поняли.
«Балканские, – сказал один из них. – А ты, случаем, не ельшанский?» – «Почти угадал! – сказал я. – Чего, встречались раньше?»
«Не, – ответил пацан. – Просто там завсегда с собаками все ходят».
Нет, прежней нарывучести в пацанах не было. Значит, и они, как и я, переболели всем этим. А ведь, бывало, балканским не попадайся. Особенно они почему-то ельшанских не любили. Как день футбола, а стадион был около тракторного, на Линейном поселке, так тут обязательно стычка. А то и две. По пути и туда и обратно.
«Я только приехал, – говорю пацанам, – как тут жизнь-то?»
«Бьет ключом и все время по голове!» – опять сказал тот же белявый, что начал со мной разговор и среди троих был, видимо, самый шустрый.
«Завод ни один не пустили?» – интересуюсь.
«Как же, два работают, – уже, вижу, с задоринкой стал говорить он дальше – Один «чики» выпускает, а другой – «брики».
Двое, что стояли все время утупившись, сдержанно засмеялись.
«А ты на каком из них пар мешками носишь?» – спрашиваю с той задиринкой, которая не обижает.
«Мы – федюхи с фэзэухи!» – говорит – белявый, надеясь, видимо, рифмованным словом застать меня врасплох.
«А зарабатывают федюхи хлеба по краюхе?» – спрашиваю я, и этим явно равняю шансы.
«Нет, – говорит «таратор», как мысленно я его «окрестил», – в самом деле, мы все Федьки. Я, – ткнул он себя в грудь, – Остапец.
Я назвал себя.
«А это, – указал Остапец на пацана в конопушках, – Рохин. Между прочим сын генерала».
«Скажешь уж…» – потупился Рохин.
«Чё, не правда, что ли?»
«А я – Левадный, – подал голос третий. – И вовсе не Федор, а Федот. Это Остап Бендер меня в свою команду определил».
Я улыбнулся. Кличка впрямь шла Остапцу. Было в нем что-то такое, что выдавало комбинатора.
«А собаку твою как кличут?» – спросил Федько, как только что назвал Остапца Рохин.
«Норма!» – ответил я.
«Гляди, прозвище совсем стахановское! – подхватил Остапец. – Если бы у меня была такая собака, я не был бы отстающим в бригаде».
«Чего же ты считаешь, что Норма сама себя за тебя выполняла?» – спросил я.
Мы еще малость побалагурили, и у меня на сердце отлегло.
Нет, не сломал страх мальчишечьи души. Все те же они остались, что были до войны. Только, может, помудревшие малость. Ведь через столько пришлось пройти.
«Ну и где вы учитесь?» – спросил я.
«На тракторном, – на этот раз ответил Левадный. – Только учимся – это шепотом под подушкой сказано, завалы разбираем. Как говорит наш мастер: «Из нужды горе извлекаем!»
«А правда, твой отец генерал?» – спросил я Рохина.
«Да шутейно я как-то ляпнул при травле, – сказал Федор. – Ну оттуда и пошло. Теперь проходу не дают. Ночью даже кто-то лампасы мне на брюки пришил».
С нами поравнялась телега, которую едва тащила длинногачая поджарая лошаденка с какими-то обтрепанными ушами.
«Эй, гвардия-мардия! – крикнул нам возница – Посторонись, а то отдавлю то место, чем воду шить!»
«Дед Аверька! – крикнул старику Остапец. – Что же ты на своих бузу крутишь?»
«А это Федяхи, что ли?» – подслеповато прищурился дед.
«Они самые зимой – бессанные, летом – бесколесные, ни обутые, ни босые».
«А он ничего в рифму гонит!» – восхитился я Остапцом про себя.
Пацаны – мало-кучей – свалились на подводу и уже издали крикнули:
«Приходи, если нигде не устрянешь!»
Вприпрыжку и вприскочку, потому что подмерзли с Нормой порядком, пока с пацанами балендрас я вел, добрались мы все же до нашей улицы. Как я и думал, от нашего дома ничего не осталась. Только стена одна до половины. И такая чужая на вид, словно ее сюда притаранили из другого места. А вот Мишкина избенка почти цела.
Глянул я на нее, и окатило меня знобким холодом: из трубы, вижу, дымишка вверх поднимается. Робкой такой струйкой, вялой, но все же говорит, что там топится печь, а стало быть, кто-то живет.
Ринулся я туда. Дверь распахнул на весь мах. Гляжу, двое на меня глаза узят. Наверно, муж и жена. Я сперва не понял, что это они таким образом Норму боятся.
«Кто такие?» – спрашиваю.
Муж, смотрю, дрожащими руками какие-то бумажки на столе разглаживать стал. А жена, этак осмелело, спрашивает:
«Вы из милиции?»
Смеюсь. Первый раз смеюсь дома. Гляжу, и эти губы разбутонили.
«Может, чайку сгондобить? – спрашивает жена. – С буряком. Знаете, как сладко?»
Меня опять разбирает смех, что они со мной выкаются, только «вашим сиятельством» не величают.
А я уже мозгую, как мне на своем подворье жилье оборудовать. Щель, в которую мы прятались во время бомбежки, запросто можно уширить, и из нее что-то вроде блиндажа получится. Тем более что накат есть из чего сделать: кто-то кучу бревен в яр свалил. Наверно, немцы. Только поджечь не успели. Потому что рядом я канистру пустую нашел. И ее – как сказал бы Савелий Кузьмич – «оприходовал».
Но, главное, обнаружил я, что санки мои остались целы. Завтра же поеду на Мамаев курган, печку привезу оттуда и пару перин, немцы, сказывают, ими укрываются как одеялами, да и ковры прихвачу. Пригодятся в хозяйстве.
Загадал я поездку на Мамаев назавтра, и вдруг понял, что нынче-то жить негде. К этим, что заняли хату Купы, проситься на ночлег как-то неудобно. А остальные дома на нашей улице, какие уцелели, хотя и пустуют, но стоят без окон и дверей. В них ночевать все равно что в бредень от дождя прятаться.
Взял я санки, и поехали мы о Нормой на Мамаев. В сумерках едва нашли блиндаж. Зато только завалились в него, да я «буржуйку» теми брикетами накочегарил. Они, кстати, горят как порох. Ну и, понятное дело, покормил Норму. От палой лошади мяса тем самым тесаком оттяпал. Как оно пенно варилось! Так и переныривало. Запах один и то душу вынимал. А попробовал пожевать кусочек – не лезет в горло, хоть убейся. Махан есть махан. И за эту ночь не отощаю, а завтра чего-нибудь придумаю. В планах было еще по Мамаю полазить, не может быть, чтобы нигде ничего съестного не осталось. Немцы, сказывают, народ запасливый.
Но, для верняка, решил я еще по тому блиндажу полазить. Стал осматривать все утлы и вдруг на надпись натыкаюсь: «Здесь был Безруков». А – чуть правее и вкось – приписка: «Врет, руки у него были, а вот насчет головы не ручаюсь. Мозговой».
И тут меня осенило: так это же наш блиндаж!
И стало как-то сразу покойно, словно встретил доброго, хорошего человека. И мы с Нормой уснули, и, по-моему, я за много-много ночей ничего не видел во сне, хотя мне, признаться, хотелось, чтобы привиделся Иван Инокентьевич, поскольку я, может быть, был в двух шагах от того места, где он пролил свою кровь и последний раз увидел белый свет.
В яру за нашей улицей, куда мы до войны бегали играть в разбойники, стали вытаивать трупы. Еще вчера просто бугорки виднелись, а сегодня по ним прожелть пошла – это шинели означились.
Гляжу, две бабки в яр спускаются. Одна с суетливой поспешностью, а вторая – о опаской, видно, поскользнутся боится. Первая уже и бугорков пять разгребла вилишками с короткой рукояткой. А вторая возле одного колдует. Палочкой во что-то тычет.
Вышел из дома Купин квартирант, что ли, или как его величать, кто в чужом доме без спроша живет, говорит: «На охоту подались!»
Я – молчу.
«Одежонку с мертвяков сблочивают и – на базар, – продолжает он. – Из живых рук ее вроде и брать не гребостно. Потому покупают».
А та, что с палочкой, все возле одного мертвяка хлопочет. Зато другая чуть ли не весь яр исколесила. Подбегает она к той, руками машет. Наверно, объясняет: мол, с такой «производительностью» в ударники не высигнешь.
И вдруг как кинулись обе на того мертвяка, словно он им родичем ненаглядным был. Отпихивают друг дружку, даже лягаются.
Та, что была рохля рохлей, тут такую сноровку обрела, что шустрой против нее не устоять. Гляжу, уже полезли волосья друг дружке на кулак наматывать.
Тут мы и спустились с Нормой в яр.
«А ну прекратите!» – кричу им. И вдруг понимаю, отчего вся эта катавасия: часы, оказывается, они у убитого немца одновременно заметили.
Плюнул я и стал выбираться из яра. А они, видно тоже подумав, что я из милиции, разноголосо гундели мне вслед: «Мы же не крадем!»
В тот день мы с Нормой уже ночевали дома. Правда, моя землянка была оборудована не так уж роскошно, как блиндаж на Мамаевом. Что ни говори, а стены тут промерзли, и как только стал я палить в «буржуйке» те самые брикеты, сперва осклизли, а потом и явно потекли, отчего под ногами образовалась лужа. Тогда я стал обделывать их тесом.
Потом приступил к быту. Из гильзы снаряда сделал светильник, потому что батарейка в «Даймане» стала явно садиться и свет от него был не такой яркий, как спервоначалу. Решил запастись «гасу», как называют казаки керосин и прочее, что можно жечь в лампе. И как раз рядом танк подбитый стоял, но я так и не нашел, как спустить с него горючку. Пришлось спросить или, как говорили раньше на нашей улице, позычить у бойцов бензина. Дали. И еще краюшку хлеба пожертвовали.
А днем видел я, как на площади Павших Борцов кухня солдатская стояла. Люди – все больше в рванье – к ней в очередь выстроились. Подумал я к кому-нибудь в затылок пристроиться. Да что-то совестно стало. Не хотелось чувствовать себя нахлебником.
На подворье Савелия Кузьмича нашел я какой-то затрапезный баульчик с железными застежками. Заглянул в него, а там разные слесарные инструменты пополам с осколками, что его промережили. Подумал: пригодятся эти рубачки и напильники. Уже о хозяйстве своем печься начал. Потом мешочек с сохлой травой попался. Понюхал я ее: мята. И это в кон. В каске чаю заварил. В нашей, конечно. А немецкую для другого дела приспособил, чтобы ночью из землянки не вылазить. Гляжу, жильцы из Мишкиного дома возле моих «хоромов» толочься стали.
«Чего вам?» – спрашиваю.
Жена тянет мне наш чайник. Я узнал его по рисунку. Там гусыня с гусаком были почему-то лентой по шее перевиты.
Беру. Грех свое не взять. Но, вижу, неловкость у них в моклаках ходит. То она ножкой в валенке зачертит, то он сапогом кочку сбить норовит.
«Ну что еще?» – спрашиваю.
«Познакомиться хотим, – тянет мне лапу муж и представляется: – Николаем меня кличут».
Он кивнул на жену и продолжил:
«А она у меня Александра, по-простому говоря».
«Заходите к нам! – зачастила жена. – Вместе, кой есть, кусок разделим».
Я пообещал. А Николай стал мне помогать. А я в ту пору летнюю конуру для Нормы делал. Когда холодно, вместе с ней спать будем. А потеплеет, рядом уже не улежишь.
А Александра домой подалась. И вдруг – летит оттуда, распатлавшись, и кричит:
«Нас там кто-то грабит!»
«Норма, за мной!» – крикнул я и увидел, как из широко распахнутой Мишкиной хаты вылетывают на улицу разные шмотки. На улицу, потому что забора вокруг давно уже не было. И двор был превращен в проезжую дорогу. Тут она как раз делала загогулину.
Мы с Николаем, без отдышки, взлетели на крыльцо, и я опешенно попятился. Посреди комнаты стоял, раскрасневшийся от злого усердия, Мишка Купа.
Я бросился к нему. А Норма – вот умница! – видно, поняла, что не враг он. Взлаяла и остановилась в шаге.
Во дворе стала причитать Александра, наверно боявшаяся заходить в дом. А Николай остолбенело смотрел то на Мишку, то на меня.
«Значит, пригрели бок в чужой хате и считаете, что она своя?» – спросил Мишка, еще не остывший от злобы, перебитой радостью встречи со мной.
«Мы… – потупился Николай. – Словом, на месте нашей хатенки воронка в два таких дома водой налитая стоит».
«А на какой улице вы жили?» – не знаю, для чего спросил я.
«На Дар-Горе!» – быстро ответил он.
«Дар-Гора большая, – подхватил Мишка, видимо уловив ход моих мыслей. – На какой улице твой дом стоял?»
Тут-то в комнату, боязливо озираясь, заглянула Александра.
«Только зеркало не рушь!» – попросила, словно Мишка чинил тут разбой.
«Это все она, – упавшим голосом кивнул Николай на жену. – Заладила одно: «Поедем в город! – и все тут. – Там, – говорит, – домов бросовых тьма. А тут оказались одни развалины».
«А откуда сами?» – спросил я, не давая возможности Купе снова озлеть.
«С Цацы. У нас тоже через все село как плугом езжено».
Мишка в ту пору держал в руках рамку с портретом какого-то царского генерала.
«А этот у вас откуда?» – спросил я.
«Дед мой, – ответил Николай, – все время его с собой возил. – Блюл, можно сказать».
«И как его кличут?» – полюбопытствовал я.
«Генерал Брусилов».
Я вспомнил, о нем даже в школе говорили.
«Это какой прорыв через горы, что ли, учинил?» – теперь спросил Мишка.
«Он самый!»
Я взял портрет и увидел внизу надпись: «Славному сыну России Николаю Егорову Куприянову от верноподданного его императорского величества генерала Брусилова – в знак уважения и восхищения храбрости оного». И – подпись. Витиеватая, но разобрать можно. Я намного хуже расписываюсь, хоть и заслуг пока никаких не имею.
Мишка осторожно взял у меня портрет, поставил его на стол, прислонив к стене, и неожиданно сказал Николаю:
«Живите уж! – И добавил с горечью: – Раз раньше захватили».
«Да мы все поместимся! – лепетала Александра, споро таская вещи, которые выкинул Мишка. – Я в чуланчике спать буду. А как потеплеет, мы свою какую-нибудь холобуду сгондобим».
«Ладно! – махнул рукой Купа и, словно только теперь осознав, что мы встретились, кинулся ко мне: – Генка! Глазам не верю!»
Всю ночь и почти весь следующий день мы проговорили. Сперва – при коптилке – в моей землянке, потом – уже при свете – шастая по нашей улице.
«Куда же ты тогда делся?» – задаю я тот вопрос, что первым на язык намотался.
Мишка долго смотрит на огонь, словно накаляет об него зрение, чтобы увидеть то, что уже стушевало время.
Только он тогда вышел, связист ему навстречу бежит, провод за спиной с катушки, вихляясь в разные стороны, сходит. Сквозь одышку спрашивает: «Ты местный?» Мишка ему стал говорить, что, мол, не совсем. В городе в этом живу, а окрестностей тут не знаю». Но тот и слушать не стал. Сует ему один конец провода и приказывает: «Вон туда его укрепи!» Полез Мишка на дерево. А тут – снаряд. Его – как смыло. Сперва и боли не почувствовал. Только гул вроде бы отдалился. А попробовал подняться – сразу затяжелило тело. Но провод он все же закрепил, как велел связист. Схватил боец «Мишку под мышку», как раньше говорил про Купу Савелий Кузьмич, и – к Волге. А там как раз партию раненых на тот берег отправляли.
Показал Мишка сперва спину, потом – грудь. Сплошные рубцы. Мне даже как-то стыдно стало. Я за это время всего-навсего под плуг угодил. И то, считай, удачно. Как Фенька углядела, что я со станины сверзился, до сих пор ума не приложу. Может, и вправду, как говорила Танька, она на меня все время пялилась.
Ходим мы с Мишкой по тем тропкам, по каким до войны бегали, и даже не верится, что это было не так уж давно. Кажется, прошла целая жизнь и – вот на убыли своих лет – заглянули мы в пределы своего детства. Ходим, ищем чего-то глазами, а чего – толком не знаем. К тому же взгляд натыкается на разные такие штуки, от которых уже воротит. Я, например, увидел немецкую винтовку. Клацнул затвором – заряжена. Хотел запулить ее в яр, Купа рассоветовал:
«Давай возьмем. Победа придет, хоть из нее попалим вдосталь».
И только он это сказал, как увидели мы оба тех же бабок, что прошлый раз дрались в яру. Они опять ходят – только теперь не от белесого бугорка к белесому бугорку, а от сутемного холмика – к сутемному холмику, от одного мертвяка к другому, обе в черном, как вороны склоняются над убитыми.
Гляжу я на Мишку, а он с лица опал, словно голодовкой его две недели морили, и даже старковатым каким-то стал, почти неузнаваемым.
«Сволочи!» – сказал я, и, сам не ведая как, вскинул винтовку, и – бац! бац!
Схватился Купа за ствол, отворотил его в сторону, говорит:
«Ты в своем уме?»
До сих пор благодарен я Мишке, что он тогда остановил меня. И не убил я в тот раз никого, а всю жизнь меня преследует сон: идут женщины – все в черном – а я по ним палю. И вот они падают. Замедленно, как теперь в кино часто показывают. Подхожу я к ним и вижу – это мама и тетка Марфа-Мария.
После ночи, в которую приходит этот сон, обязательно – въяве, конечно, – являются неприятности.
Ну всю эту мою пальбу, конечно же, видели и Куприяновы. Глядим, Александра вновь шмутки в узлы увязывать начала. Решила смыться от греха подальше. Уж если один из нас по бабкам стал палить, чего дальше ждать.
«Мы в Цацу подадимся, – суетился рядом и Николай. – А то скоро весна. Там хоть огородик какой ни на есть посадим. А что тут? Одни овраги да развалины».
И вот мы богуем с Мишкой одни во всем доме. Первым делом, конечно, оттащили на барахолку мои ковры. Две буханки хлеба за них получили. Можно сказать, продешевили. Но уж больно есть хотелось.
Поднатаскали мяса и для Нормы. Благо, в то время в любом овраге палые лошади валялись.
Съели мы в тот день и по две котлеты. Ими торговали бабки, чем-то схожие с теми, что по нашим ярам лазили. А тут кто-то слух пустил, что они палое мясо в дело пускают. Да еще человечины добавляют.
Вот тут-то моего Мишку чуть наизнанку не вывернуло. Хрипит:
«Пойдем винтовку возьмем, я им всем мозги на просушку выпущу!»
Весна, что долго копошилась слабыми, будто вялыми, ручейками, внезапно набрала силу. И не от солнца, которое целыми днями приблымкивало в облаках, а от дождя, который хлынул из, на первый взгляд, не очень то серьезных туч.
И этот дождь, перемежаясь, продолжался весь день, а в ночь зарядил без останову.
Утром глянули мы в яр, а там – ни снежинки.
«Ну, – вздохнул Мишка, – кажись, до весны доскреблись».
И вот в тот день, когда серость еще мглила небо, хотя дождь и не шел, слонялся я, слонялся по комнатам, и вдруг на глаза мне тот – истерзанный саквояжик с инструментом попался. Позвякал я ими рукой и вдруг предложил Мишке:
«А что, если нам фабрику на дому открыть?»
«Пуговичную? – вяло интересуется он и – с подначкой – поясняет: – Будем делать из мухи слона, а потом – из слоновой кости пуговицы?»
Поржали по этому поводу. Но мысль ему моя, в общем-то, понравилась.
Не стал я откладывать на потом свою затею. Надел старые галоши, что на чердаке валялись, и пошел к самолету, который грохнулся, кажется, еще в августе. Его, видел я, не успели еще обскелетить такие же «фабриканты», как мы.
Алюминия надрать оказалось делом не таким уж легким… Потому вернулся я за ломком и плоскогубцами и, с горем пополам, кое-что наскреб.
Тут же нашел я колотушку, в которой сделал углубление, и наложив на него кусок алюминия, оббил молотком.
Осталось – рубачкой – обсмыкать края и – вот тебе ложка. Первая получилась не очень симметричная. Влево куда-то вся подалась. Зато вторая удалась, как мне показалось. Я даже на ней вензель свой вырезал иголкой: «Г. Д.»
Повертел ее в руках Мишка и говорит:
«Как ты был куркулем, так и остался. И война тебя не воспитала!»
А я не пойму, за что он меня, шутейно конечно, костерит. Потом он берет иголку и к моим «Г. Д.» еще «М. К.» добавляет.
Продавать ложки ходил Мишка. У него это лучше получалось. Он мог, коль надо, возвысить голос до зазыва. А я, как пить дать, простоял бы молчаком.
Ложки – раскупили. А я за это время вилки научился варганить. Сперва тоже рубачкой одной орудовал. А потом штамп придумал. И у нас дело пошло как по маслу.
Жить стало вольготнее. А тут и люди на нашу улицу возвращаться начали. Вечером, смотришь, никого нету, а на второе утро дымок из печки, коль она уцелела, струится. Бежим узнавать, кто это заявился.
А как-то приходит Мишка с базара и говорит: «Ивана Павлыча Чередняка встретил, нашего довоенного соседа. Теперь он на тракторном обретается. И, конечно, как и прежде, шоферит.
Про себя он любил шутить: «Мне и кирпич баранкой кажется». И в самом деле, сколько я его помню, он все время за рулем. Приедет, поест дома и опять пошел рулить. И что только он не возил. Зато нас обязательно в конце дня покатает. Просто – не на ужин, а так приедет, походит вокруг машины, попинает ногой колеса, потом скомандует: «А ну кто бустрее, кто шустрее, залезай, пока я добрый!» Заскочим мы и прижухнем, чтобы упаси Бог – дядя Евсей – милиционер с нашей улицы – не увидел. Тот обязательно прогонит. И Ивану Палычу выговорит. А то и сам с ним куда-нибудь уедет, не забыв, конечно, выгрузить разочарованных нас.
«В колонну свою зовет, – сказал Мишка про Чередняка, – слесаря им нужны до зарезу».
«Да разве мы сдюжим это дело?» – усомнился я.
«А то ты думаешь! Нашел тайну за семью печатями. Раньше вон весь народ неграмотный был и то до всего своим умом доходили. Ты, наверно, сроду не думал, что сможешь ложки с вилками мастырить».
И снова мне вспомнился Иван Палыч. Он был из тех шоферов, который не делал секретов из своей профессии. Бывало, спустит у него колесо, он его на виду у всех монтирует. Даже нас подержать что-либо просит. А один раз я пробовал качать насосом баллон. Правда, у меня тогда не очень здорово это получилось. Насос был дюже тугой, никак я его сдавить не мог. А вот Савелия Кузьмича Иван Палыч не любил.
«Продуманный больно, – говорил. – Даром и «ох» не скажет».
И, может, прав он был. Савелий Кузьмич сроду на дармовщину не работал. «Без меня, – говорил, – кашу ели, без меня и руки грели. А поплясать я и без вас смогу».
Туманными были его высказывания, но, как и я тогда считал, все же зловредными. А вот Иван Палыч всегда говорил понятно. Не старался казаться умнее других.
Но если Ивана Палыча я любил, можно сказать, безоглядно, то Савелия Кузьмича – не только с оглядкой, а с оговорками, что ли. Не все в нем мне нравилось. Особенно ершистость, с какой он сроду ходил по нашей улице, и люди старались не попадаться ему на глаза, потому что он обязательно им какую-нибудь гадость скажет.
Но то, что совершил Савелий Кузьмич в тот – памятный для нас с Мишкой день, – вернее, вечер, я не забуду никогда. Этот взрыв и по сей день стоит у меня в ушах.
К Ивану Палычу мы решили «сгонять», как только чуть прочахнет дорога. Причем, признаться, не хотелось нам заявляться к нему с пустыми руками. Хоть чего-то из съестного попробовать прихватить. Сейчас лучшего подарка никому и не надо.
И вот наконец собрались. До тракторного хоть и далековато, но решили идти пешком. Вспомнить захотелось, как на футбол до войны хаживали. За дорогу раз по десять с кем-либо подеремся. А как орали на стадионе! Особенно если Пономарь мяч подхватывал. Тогда все скандировали одно: «Шурик, сам!» И Александр Пономарев выполнял наш наказ.
Встретил нас Иван Палыч с улыбкой, но без объятий и – пуще того – поцелуев. Даже руки не подал, потому что они у него в солидоле были. А когда он их вытер о полу немецкой шинели, что висела на эстакадке, порылся в карманах, как он часто делал прежде, только вместо пряников и конфет, чем баловал нас до войны, достал пачку папирос.
Но мы этому были рады, потому что в ту пору пробавлялись в основном мохряком.
Закурили. Сидим на баллонах. Я думаю, много их Ивану Палычу монтировать приходилось. И эти его рук ждут. И, конечно, предлагаю:
«Давайте мы вам поможем?»
«Валяйте!» – соглашается он, зная, что это дело нам уже знакомое.
Качали по очереди. Потом опять перекуривали. Правда, на этот раз мохряк, потому что у Ивана Палыча осталось всего три папироски. Когда машина была «обута», пошли к начальству.
Потешон – так звали в гараже помпотеха Петра Михайловича Клокова – оглядел нас придирчиво, словно мы проходили медицинскую комиссию и претендовали на роль «красавцев-мужчин».
«Сутулишься-то чего? – спросил он меня и вдруг поинтересовался: – В семье никто горбатый не был?»
Но особенно пристально осмотрел он наши руки. Хмыкнул по какому-то поводу, потом спросил:
«А что мы умеем?»
За нас ответил Иван Палыч:
«Да то же, что и мы с тобой, когда к Королю пришли».
Королева мы знали. Это бывший начальник автоколонны, довоенный орденоносец, лет уж, наверно, десять как на пенсии. Но на собрания, когда нам случалось тоже на них быть, его привозили. Он держался прямо, говорил громко и в конце своего выступления всегда предлагал спеть «Интернационал».
«Ну а кто их учить будет?» – уже явно стал нудить Потешон.
«Мы с тобой, кто же, – просто ответил Чередняк и, как мне показалось, малость поднапрягся скулами, наверно, ему не нравилось, как вел себя Клоков. – Потом они и сами давно шайбу от гайки отличают. Это с моей улицы пацаны».
Иван Павлович это сказал так, словно на нашей улице действительно сплошь умельцы да скорохваты.
«А матери вас сюда отпускают? – спросил, по всему видно, уломанный Иваном Павлычем Потешон и, наверно, поняв неуместность своего вопроса, погорился совсем другим голосом, нежели разговаривал с нами: – Эх, война, война, что ты натворила-навыгопывала!»
Он какое-то время посидел, близко придвинувшись грудью к столу, словно не давая ей дышать в полную силу, потом, резко отстранясь, произнес: «Ну что ж, Иван, веди их в мастерские».
Мастерские представляли из себя расчищенную от разного хламья площадку, на которой, как говорили шофера, «лежали» автомобили, хотя они вообще-то стояли. За исключением одной полуторки, которая действительно лежала без колес и кузова.
«Сейчас вам будет лафа, – сказал Иван Палыч, когда мы перетрогали руками все, что стояло и лежало вокруг. – Вон сколь техники кругом. Любой болт или гайку найти можно. А раньше…»
Когда он вспоминал молодость, то почему-то говорил отрывисто, словно диктовал телеграмму. Первые машины, под какой бы они охраной ни находились, «кулачили» почти каждую ночь. Не могли враги смириться, что «голодранцы» слезли с телеги и за руль сели. Потом стали работать тоньше: в баки соли или сахар сыпать присучились, чтобы жеклеры в карбюраторах забивались. И, наконец, один раз убили шофера – Леню Кочетова. И не просто убили. А – еще живому – глаза выкололи и баранку на спине ножом вырезали.
Ознакомив нас со всем, чем нам предстояло заниматься, Иван Палыч предупредил: «А ложечно-вилочное производство не останавливайте. Пока оно вас кормить будет».
Работа у нас была и не пыльная, и не денежная – грязная.
Домой мы приезжали чумазые, отмывались соляркой с песком, потом кормили Норму. И только после этого садились есть сами.
Вечером – уже при огне – пробовал я делать ложки или вилки, в зависимости от настроения, как заметил Мишка. Если в игривости пребывал – на ложки тянуло, если в колкости – на вилки. А впрочем, это он, наверно, тоже все выдумывал.
А еще он, черт клепаный, заметил, что я стесняюсь продавать свои изделия, сперва стал просто надо мной изгиляться и выламываться, чтобы я его хорошенько просил пойти на базар, а потом и вовсе забастовал.
Я, если признаться, и сам не знал, откуда у меня эта буржуазная, как мне в ту пору казалось, застенчивость появилась. Словно не свое кровное, а ворованное продаю. И еще одно я за собой заметил: стал я стесняться и безденежья, будто в семье миллионеров вырос.
Но это все потом в себе обнаружил, когда один раз позвал в кино Нюську-шоферицу, девку хваткую, горластую, матерки знающую, как «Отче наш». Приходим мы с ней к подвалу, где в ту пору картины гнали. Стоим. Ждем, когда сеанс начнется. Тут – откуда ни возьмись – цыганка выворачивается: «Позолоти ручку!» Я бы ей задницу позолотил, чтобы и в Бесарабии еще сияла. Я в ту пору, видимо, под впечатлением пушкинских стихов, считал, что родина цыган – Бессарабия. А Нюська: «Генка, дай ей на лапу, пусть если уж не судьбу предскажет, так катает отсюда к веселой матушке!» А чего я дам? Стал я по карманам себя лапать, а сам отлично знаю, что у меня только и было, что на билеты. А сказать стесняюсь, что гол как сокол. «Посеял он деньги», – говорит за меня Нюська. «Что ты, дорогая, – возражает цыганка, – разве не видишь, вон он как коленки свел. А это значит, жадоба несусветный. За копейку удушится». И не лопоухая вроде была Нюска, а тут уши развесила. Увела ее цыганка за угол. Долго что-то ей точала. Потом – гляжу – Нюська кофту с себя снять норовит, видно, чтобы ей отдать. Подскакиваю я и ту цыганку – в тычки. А Нюська стоит, как в воду опущенная. И куда ее шустрость делась. Даже все матерки, кажется, перезабыла, потому что сказала: «Зачем ты ее так?» А назавтра подходит ко мне на работе и протягивает деньги. «Возьми, – говорит, – за вчерашнее кино». Ну я ее и «пустил по кочкам», как она тут не раз нашего брата пускала. Стоит, задумавшись, словно музыку слушает, потом пошла, пошуршивая промасленными до кожаности штанами.
И ходила она так недели две, пока не отошла от всего, что ей наплела цыганка.
Тут, на тракторном, опять мне «Федюхи с фэзэухи» встретились. Все трое. Правда, Остапец с фонарем под глазом.
«Где это ты по габариту не прошел?» – спрашиваю я на чисто шоферском жаргоне.
«Это его гудок так врезал», – за Федька ответил Федот Левадный.
Оказалось, заставил их мастер заводской гудок оттереть от ржавчины, вот Федько и разогнулся возле него с той шустростью, с которой все делал. А там штырь.
Я рассказал о своей работе. Думал, у ребят глаза разгорятся. Шоферское дело, считал я, не может никого не увлечь. А Рохин мне говорит:
«Ну что ты там нашел? Будешь всю жизнь крутить баранку и все. А на заводе вон сколь ступенек: сперва рабочий, потом бригадир, затем мастер, а там – начальник цеха».
«Уж топай до директора!» – съязвил я.
«А что ж, – увлекся Федька. – И дотопаю!»
И, как я через много лет узнаю, дотопал.
А пацаны с нашей улицы – вот кому не пропасть! – стали потихоньку – кто откуда – выползать и появляться. В разное время пришли братья Гордеевы – Зот, или Зося, как мы его звали, из штрафного немецкого лагеря приехал. Как он там очутился, расспрашивать было некогда – целый день на работе. А Иван – по кличке Гива – из-за Волги притопал. Казахскому языку, как он сказал, «учился без передышки» и теперь, как мы порешили, «анкаль» от «бишбармака» отличит.
Петька Комар, хотя и обретался в Бекетовке, на свою улицу заявился чуть ли не последним.
«А чё тут делать? – сказал. – Там хоть на дома целые насмотреться можно».
А вот Егор Бугров, по-простому Бугор, аж с Урала прибыл. Как услыхал, что наши «удавку» немцам в Сталинграде захлестнули, так сразу в дорогу собрался. И вот все это время ехал, как он сказал, «на черепахе взад-вперед».
В первый же вечер, когда эти четверо – кто где – обосновались на нашей улице, потому что дом был только у Комара, стали совместно думать: как дальше жить? И тут я вспомнил про своих друзей-фэзэушников.
В общем, загремели все четверо в ремеслуху. Новое училище было открыто.
И чуть мы за ними следом не ринулись. Но меня, например, не перспектива прельстила, о которой болтал Рохин, а то, что наскучал по своим друзьям. А их селили в общежитие, и теперь мы почти не будем видеться.
И вот обо всем этом мы с Мишкой – начистоту – решили поговорить с Иваном Палычем. Пусть не дюже нас осуждает.
Слушал он нас, как всегда, не перебивая, повертел в руках где-то раздобытую пачку сигарет, но угощать такую неверную братию, видимо, раздумал, сунул ее в карман и вдруг спросил:
«Вы что же, считаете, я всю жизнь дурака валял? Тавотницей в носу свистел?»
Мы что-то пролепетали, близкое к тому, что он же на «коне», а каково нам – «безлошадным»? Если бы хоть стажерами были, а то, как говорят о нас в гараже, – ловчие из артели «Сбей бугор». И столько мы этих бугров уже посбивали, что пора бы запроситься и на другую работу.
Так мы в тот раз и не закурили. И не взяли расчет тоже. А наутро Чередняк принес нам потрепанную до пухлости книгу. Это был учебник шофера третьего класса.
Прикинули мы, до восемнадцати нам еще плыть да плыть. Потому права все равно не получим. А знания, как сказал Иван Палыч, за плечами не носить. Стали, вместе с перекуром, носом в книжку утыкаться. Увидала нас как-то Нюська за этим занятием, подначила:
«Теперь вы баллоны качать по науке будете».
И невеликие, по словам многих, из нас работники были. Кто-то далее сказал: «Помощники – из чашки ложкой». А все же за нами целая охота началась. Иному – болт подержать некому. Особенно если он проворачивается. А раз Нюська подлетела. Провернулась футорка – тоже не радость. Идет она по гаражу, базарит – то к одному шоферу обратится, то к другому.
«Иди помоги!» – толкает меня в бок Мишка.
«Чего я, рыжий, что ли?» – огрызаюсь на всякий случай, хотя и знаю, что если меня она попросит, все равно пойду. Такой уж у меня характер. Не могу отказать.
Смотрю, никто не идет к Нюськиной машине, наверно, своя работа к спеху. А то, вообще-то, шофера в нашей колонне дружные. Если где кто остановится, артелью неисправность чинят.
Не вижу, но слышу, подошла к нам Нюська. Стоит за моей спиной. Может, рожицы какие или ужимки корчит, мне не видно. Но Мишка ирегочит – значит, что-то есть. Но я не оборачиваюсь.
«Вот так и усохну на корню! – говорит Нюська. – Я возле него, считай, полдня вьюсь, а он – ноль внимания, фунт презрения».
«Чего тебе?» – спрашиваю, видно, с такой заботой на морде, что теперь смеются и другие шофера, что поближе к нам оказались.
«Пойдем, – играет она глазами, – под кустики, послушаем, как травка растет?»
И не было у меня вроде никакой зловредности, но душу вот эта ее прилюдность так дернула, что я послал Нюську по той же дорожке, какой велел ходить хромому небезызвестный Савелий Кузьмич.
«Грубиян ты, – почему-то задумчиво произнесла она. Невоспитанный. – А отойдя подальше, добавила: – Малохольный!»
«А сама ты не матюками дорогу стелешь?» – укорил я ее, а самому стало как-то вроде не по себе. И она, как бы угадав это, сказала:
«Я – от слабости, чтоб не лезли кто попадя с руками, а ты-то отчего?»
Словом, устыдила она меня, и я помог ей высверлить из футорки шпильку. А она мне поцелуй между бровей влепила.
Тут как раз Потешон случился. Вообще-то он вроде юмора и вовсе не понимает, а на этот раз спрашивает:
«Что это вы делаете?»
Ну, Нюська ему объясняет; мол, шпильку он мне из футорки высверлил. А тот, ощерившись, советует:
«А теперь сделай наоборот!»
Я, признаться, ничего не понял, а Нюська расхохоталась и, как только Потешон отошел, предложила:
«А давай – всем назло – задружим?»
Молчу. Не хочу сразу обрубить. Не тянет меня к ней. Тот раз в кино, сам не знаю зачем, позвал и – ждал не дождался, когда сеанс кончится. Она все время ворочалась рядом, ерзала на лавке, даже вскрикивала, когда показывали что-то страшное. Потом, нашарив во мраке мою руку, так же как цыганка, стала на ощупь на ней линии поглаживать.
Но главное я в ней увидел потом. Когда она начинала говорить, то носик ее, в общем-то прямой, приходил в движение и горбился, словно собирался заглянуть в рот. И вроде бы ничего в этом особенного не было, а как-то отталкивало, словно она имела два лица, которые жили отдельно одно от другого.
Да и вообще, если признаться, не волокло меня почему-то к девчатам. Так, из озорства иногда с кем-нибудь постоишь, даже ручку в своей ладони помнешь. Но как вспомнишь, что ее после кино или просто гулянья вести домой надо, какая-то лень наплывает, и я сразу отухаю от намерений, которыми было воспылал.
Беды мои пошли после того, как мы, все же огорчив Ивана Палыча, сбежали из колонны все в то же ФЗО, в которое, в свое время, приглашали меня «Федюхи». На этот раз Чередняк нас не отговаривал, не сидел в грустной задумчивости, а, наоборот, дав нам закурить, вроде ничего такого мы не выкидываем, произнес:
«Егозы в вас еще не прошли!»
Кто его знает, может, он и был прав. Но в нас взыграли патриотические «хмелины». Как же может быть так, что мы – сталинградцы – вертим ржавые гайки, когда фронту позарез нужны танки. Ведь война-то еще не закончилась!
Только мы не думали, что наш патриотизм будет воспринят в училище так буднично. Только мы переступили порог, как нам, по шутке Купы, досталось дело «по душе и призванию». Определили нас в похоронную команду. Трупы собирать по полям и ярам и – закапывать их.
А весна об ту пору уже макушку свою показала. Травка кое-где стала пробиваться, хотя и льделой земли было не так уж мало.
Осторожно отрывали мы от земли своих и несли их так, словно они еще могли чувствовать боль. А немцев обрубали топором и тащили волоком.
Увидел эти наши художества мастер, говорит:
«Покойник, ребята, не враг, он тоже уважения заслуживает».
«Это почему же?» – насычился Мишка.
«А потому, что уже отвоевался. И сейчас от нас, победителей, принимает последнюю почесть».
Не понравились нам его речи.
«С такой мордой в тылу посидишь, не до этого еще додумаешься! – произнес ему в спину Мишка, когда тот отошел. – Они наших живьем в землю закапывали».
«Но ведь мы – не они!» – поднял я глаза, Федька Рохин стоит перед нами.
«И ты туда же? – спросил я его и добавил: – Далеко пойдешь».
Тот хмыкнул и пошагал дальше, всем своим видом показав, что нечего с такими дундуками разговаривать. И вообще, я заметил, что «Федюхи» «смотрелись», если так можно выразиться тогда, когда ходили все трое. Чем-то они дополняли друг друга, что ли. А когда видел я их по одному, какой-то скукой от них веяло, а может, излишней сосредоточенностью.
На некоторых мертвецах одежда уже так подотдета, что не понять, чей это солдат – наш или немецкий. Постояли мы вот так над ним, не зная, в какую его сторону волочь. Как я вдруг заметил, из кармана его гимнастерки тянет ростки пшеница.
«Наш! – кричу. – Конечно, наш!»
Мишка кивает. Потом шапку с себя стаскивает. А следом и я обнажаю голову.
«Вот он, истинно русский человек!» – говорит Купа, и меня впервые бьет, словно током: может, это Иван Инокентьевич Федотов?
Ветер играет рядом прошлогодней полынью, но запаха ее не слыхать. Его перебивает тяжелый дух войны. Той войны, что хотя и ушла отсюда, но оставила поля, на которых вперемешку лежат трупы и груды металла.
Я вроде не из брезгливых, но после работы в похоронной команде еще долго, особенно когда садился есть, преследовал меня сладковато-тошнотворный запах тленья. И еще – болела душа, что вот своих от чужих не отличали. Страшное дело, быть похороненным в могиле со своими врагами. Хотя Григорий Маркыч – мастер, который с нами ездил на уборку трупов, – и говорил, что смерть всех уравняла.
Наша улица все продолжала наполняться не только пацанами. Но и взрослыми тоже.
Теперь, после того, как растаяли закраинки, придя с работы, стал я пропадать на Волге. Признаться, за последнее время мы с Мишкой, как он шутил, «довольно активно подотощали». Худо-бедно, а в автоколонне нам частенько что-либо из съестного перепадало от шоферов. За усердие и пот. А в училище – погремишь ложкой о миску – выходи строиться.
Сперва я пытался обхитрить рыбу разными, известными мне до войны, способами. Но она, проклятущая, и думать не хотела клевать на удочку и – тем паче – браться на крючок.
И тогда я пошел на ту крайность, на которую подбивал меня все время Купа. Стал ее глушить. Взрывчаткой. И один раз подвалил осетра. Икрянец попался. Вытащили его на берег, когда он еще живой был. Вспороли ему брюхо. Гляжу, ручонки грязные тянутся – не могу отказать. Все время у меня перед глазами стоят те девчонки, что когда-то подошли ко мне, охраннику глубинки. Интересно, думаю, живы они или нет. Ведь голод – свирепее любой болезни.
Развели мы костер, стали на вертеле кусочки осетрины поджаривать. А икру – почти всю – сырьем съели. Без соли и без хлеба.
Когда ешь икру без соли и без хлеба, создается впечатление, что гольную дробь заглатываешь. Так тяжело она опускается в желудок, что каждая икринка кажется свинцовой.
Но голод – не тетка, как кто-то говаривал. А я бы сказал, что он – строгий старик. Только норовит сделать все по-своему.
Словом, так я тогда нажрался черной икры, что до сей поры в рот ее не беру. И осетрину заодно.
Наелись мы, помнится, попили – вольной – волжской водички, и Мишку на думки разные потянуло. А я, не будь в недобрый час сказано, страсть как не люблю, когда люди что-либо плануют. Поверье во мне засело: как человек шлепнул, кем или чем он станет через столько-то лет, непременно кончит жизнь до срока. И Иван Инокентьевич, может, остался бы жить, коль не растравил бы судьбу своими «плантами», как говорила моя тетка Марфа-Мария.
А Мишку знай черти за язык тянут.
«Выпущу сто танков, – говорит он. – Потом в летчики подамся. Чтоб всю землю одним взглядом видеть. И кромсать эту сволоту, – он имел в виду немцев, – до последней силы-возможности».
Рядом с Мишкой я чувствовал себя ущербным. Не было у меня ни планов на будущее, ни думок, чтоб поперед моей жизни перли. Так, плелся я следом за судьбой, как опоздавший на поезд за последним вагоном, когда уже понятно, что суета не поможет догнать его на перегоне.
Не знаю почему, но тогда я поглядел пристальней, чем всегда, в лицо Мишки. Словно запомнить хотел и его чуть хмуроватый лоб, пересеченный свежим шрамом, и оттененные недоеданием глаза, и упрямые – на вид жесткие – губы.
Он пошел домой, а я остался, чтобы Норме из лапы занозу вынуть. Уж кой час она скулит. А у меня, как на грех, булавки или иголки с собой нету. А тут попался мне острый штырек. Вот им я и стал делать ей нехитрую операцию.
Потом мы тоже потихонечку пошли домой. Я – впереди. Норма – сзади. Идет, чуть прихрамывая.
И вдруг – взрыв.
По привычке, я бухнулся на землю. Потом, сообразив, что это не в меня стреляют, проворно вскочил. А из нашей улицы Юрка мне Чуркин навстречь.
«Чего там?» – спрашиваю я его.
«Пацаны мину подорвали», – говорит он.
Но по его морде я вижу, убежал он оттуда без оглядки, потому и не знает, что там произошло.
Ну я, понятное дело, понаддал на «копыта». Еще издали вижу, пацанята стоят над яром. Кучно сбились. Значит, впрямь что-то стряслось.
Подбегаю. «Что случилось?» – спрашиваю без дыхания.
Карапуз, не знаю его имени, бубнит:
«Она ка-ак зашипит! А он ее вот так, – он прижал кулачки к груди, – и – в яр. Должно быть, мы его игрушку взяли».
Я быстро спустился на дно оврага. Мишка лежал на спине. Со лба сошла хмурь, резче означился шрам, а брови словно вспучились, так сейчас выпирали. Глаза уже закрыла пелена незрячести и упрямые грубые губы – тоже на вид – помягчели. А через уголок рта, через левую щеку сукровичная ниточка протянулась.
Я откинул кусок рубахи, что прикрывал грудь, и обомлел. На том месте, где должно быть сердце, зияла кровавая пустота.
Но мною уже было замечено, беда не ходит одна. Только похоронил я Мишку, пришло из Атамановского письмо, что умерла моя тетка Марфа, которая всю жизнь хотела, чтобы звали ее Марией. Что с ней случилось – не писали. Да и кто написал, я так и не понял. Почерк корявый, явно старческий, угнетенный долгой малограмотностью.
Горюю я в одиночку. Пацаны ко мне заходят. Посидят. Повздыхают. Вроде бы война и пора привыкнуть, что люди гибнут как мухи. Ан нет. Не ко всякой беде сердце может прижиться черенком-пасынком. Некоторую никак не хочет принять. Смерть тетки, конечно же, потеря, но не такая больная, как даже сама мысль, что больше нет Ивана Инокентьевича и вот – теперь – Мишки.
И все время казнил я себя, что не оказался тогда рядом с ним. Ведь как-никак, а с разными минами мне уже приходилось иметь дело.
Горился я, горился и, сам не знаю почему, ни разу не вспомнил, что первая смерть, которая закрыла собой всю мою – будущую – жизнь, была кончина Савелия Кузьмича. И тоже – от взрыва.
И вдруг он мне в одну из ночей приснился. Сидит у себя на базу, как он звал двор, и офицера немецкого с ложечки кормит. Стоит тот перед ним на четвереньках и голову кочерит.
А меня, вроде, такая обида взяла. Мы – с голоду пухнем, а он врага до ожирения откармливает.
Так и есть. Подтверждает Савелий Кузьмич.
«Вот еще покормлю его с недельку, он пуза от земли не оторвет и палец в спусковую скобу не пропхает. – И смеется: – Воевать, тоже хитрость нужна!»
Часто стал захаживать ко мне и Иван Палыч. Наверно, тоже понимал, что нелегко нам с Нормой. Она наверняка знала, что в доме горе. Походит по комнате, подойдет к Мишкиным вещам и протяжно взлает, словно взрыднет.
Иван Палыч, как всегда, неторопливо и обстоятельно рассказывал, что нового в колонне, какие фортели кто выкинул в гараже. Там, кстати, без этого не обходится ни один день. Потом, вроде бы ненароком, напоминал про учебник шофера третьего класса, который когда-то дал нам.
И тут понял я, не зря ко мне Чередняк ходит. И не ради красного словца поведал, что у него четырнадцать профессий, что он и жестянщик, и медник, и аккумуляторщик, и вулканизаторщик, и, конечно же, слесарь. Но это, так сказать, шоферские специальности. Помимо них он может и столярить, и портняжить, и трактор с комбайном водить, и даже сыр варить.
Длинная жизнь у Ивана Палыча. Все профессии, которыми он владел, сумел испробовать. Он и сейчас, за что ни возьмется, все в руках если не поет, то играет.
«От безделья ты мукой исходишь, – сказал он, видимо заметив, что моя морда ни за одну живую мысль не зацепится. – Хоть ложки-вилки свои делай».
«А кто их продавать будет?» – внезапно спросилось как-то само собой, чтобы лишний раз уязвить память о Мишке.
«Это не твоего ума дело, – ответил он. – Ты их побольше клепай, чтобы передыху не было!»
Он загасил окурок, который догорел до пальцев, и посоветовал: «И вообще меньше сиди дома. А то раньше за день где только тебя не увидишь. А сейчас – прижух».
Ушел Иван Палыч, и я, пересилив себя, сначала вышел просто на улицу, потом на Волгу пошепал. Добрел до самой Царицы берегом. В самом деле мысли чем-то увиденным перебиваться стали.
А день, помнится, холодный был, смурной. Смотрю, рыбачишка один стоит по колено в воде. Подхожу – пацан. Весь трясется от мурашечного озноба, а удит. Вот уж действительно – охота пуще неволи.
Присел я на камушке. Гляжу.
И вдруг поплавок у него задергался, потом заплясал и тут же совсем под воду скрылся.
«Подсекай!»
Смыканул он, и, видимо, вовремя. Что-то тяжелое сперва просто удилище в дугу согнуло, потом леску выструнивать стало.
Разулся я быстренько, подбрел к парню, помог выволочь здоровенного красноперого язя.
«И не сорвался!» – шепчет пацан дрожлым голосом.
«Чего так? – спрашиваю. – Тут радоваться надо, а ты в понурую конуру морду суешь».
«Тут сунешь? – опять выдраживает он и куда-то поверх моей головы смотрит. Оборачиваюсь и я – стоят на верхотуре три парня. Посмеиваются. Потом один, у которого, заметил я, левый глаз меньше правого, говорит:
«Кидай рыбину, Горюха!»
Пацан подал язя. Тот передал его другому – рябоватому парню со словами: «Канай на балочку!»
И тот, размахивая рыбиной, стал проворно выбираться наверх.
«Кто купит, – кричал он расхожий в то время базарный зазыв, – тому ничего не будет!»
«Ну чего уставился? – прикрикнул на пацанишку разноглазый. – Давай стахановскую норму».
И пацан, с какой-то обреченной поспешностью, стал закатывать штаны, которые отворотил было, чтобы хоть немного согреться.
«Кто они тебе?» – спросил я пацана.
«Ник-то!» – еле выдрожал он, и я увидел на глазах его слезы.
«Ну а какого черта ты на них холуйствуешь?»
Договорить мне не дали. Разноглазый, наверно, решил сделать меня не менее красивым, чем сам, потому, отойдя от костра, у которого все они грелись, врезал мне между глаз.
Еще в голове звенело, но я уже оценил и силу удара, и степень опасности, в которую я угодил по собственной глупости. За пацана, конечно, надо было заступиться, но не так безоглядно, как сделал я. Ведь ничего не стоило, к примеру, кликнуть пацанов с нашей улицы. И тогда силы бы сразу стали равными.
Но эти мои рассуждения прервал еще один удар. На этот раз ногой в пах. Я согнулся крючком, и тогда разноглазый, схватив меня за уши руками, заездил мою морду о свое колено.
И все же на ногах я на этот раз устоял. Даже выпрямился. И тогда в руке у Разноглазого блеснул нож. Наверно, он прирезал бы меня, как кролика, которого держат за уши, потому что у меня даже не было силы, чтобы выдохнуть воздух, который распер мне грудь.
И я на мгновение вспомнил того парня, которого – кодлой – били ногами. Может, у него тоже не было сил, чтобы поднять руку или хотя бы закричать.
А сзади я слышал хныч пацанишки. Он, видимо, все еще стоял в воде и на этот раз следил не за поплавком, а за тем, чем же кончится эта неравная драка, которая в общем-то началась из-за него.
«Оставьте мне!» – услышал я возглас того, что ходил продавать язя. И мне стало ясно, живым они меня отсюда не выпустят. И вот эта обреченность, что ли, или другое какое-то чувство сперва отрезвило, потом придало сил, и я кинулся на Разноглазого.
Он, видимо, не ожидал от меня такой шустрости, потому что на мгновенье растерялся, и я выбил у него нож, который, отлетев, воткнулся в песок. Я подскочил к нему первым, но не схватил его, а пяткой утопил в землю по самую рукоять.
Краем глаза я видел, что на меня летит тот, что бегал на базар. Но все мое внимание занимал Разноглазый. И я, прыжком оказавшись рядом, ударом в живот тоже сломал его пополам. Только, как он, не стал бить в лицо, а, поддев левой из-под низу, выпрямил, даже, кажется, выструнил и еще раз саданул под дых.
И тут же сам получил удар по затылку. И явно не кулаком. Но я удержал в себе сознание, хотя не помню, как оказался на земле, и первый удар ногой отматнул мою голову в сторону.
Я встал на четвереньки и почувствовал, что сейчас меня начнет драть. А Разноглазый, в полуприседе, теперь уже с кастетом в руке, медленно шел ко мне. Ему нужна была моя голова. Сейчас он приложится к ней этой злой свинчаткой, на которой, заметил я, было пять кровавых шипов, похожих на гребень петуха.
Я не понял, что опрокинуло Разноглазого наземь. Может, тоже слабость, потому что я сам не удержал тяжелину головы, и она завалила меня набок.
И вдруг я услышал длинную визгливую ноту. Ее, судя по голосу, вел пацанишка.
На моих зубах хрустел песок и, отплюнувшись, я повернул голову и прямо перед собой увидел раскрытую пасть Нормы. Скульнув, она метнулась в сторону, и тут же раздался дикий мужской вопль.
Наконец я медленно стал подниматься. Сел. Все вокруг неторопливо поворачивалось, словно земля сошла со своей оси и теперь крутится так, как ей вздумается.
А пацанишка все вел свою ноту. И только тут я понял, он боится Нормы.
«Сидеть!» – выдавил я из себя, однако заметив, что трое из четверых моих обидчиков лежат на земле и вокруг них, злобно порычивая, винтует Норма. И, видимо, не слышит моего голоса.
Все еще на четвереньках я дополз до воды, уронил в Волгу лицо, зарылся им в волну, но пить и то не было сил.
Я опять сел. Но сейчас карусель была не такой верткой. А парнишка, догадавшись намочить свой картуз, приложил его мне к затылку. Наверно, там была ссадина, потому что сразу же защипало, и боль проникла во всю голову, и она, освобожденная от звона, налилась какой-то глуховатой тяжестью.
Только с третьей попытки я встал.
«Иди домой!» – сказал пацану.
«Как же я тебя оставлю!» – неожиданно бодро ответил тот, и я понял, от страха, который ему пришлось пережить, он даже перестал дрожать.
Разноглазый, видимо очухавшись раньше, чем я, начал канючить:
«Слышь, кореш! Ну чего мы бодалки друг на друга навострили? И козе понятно, что на своего нарвались. Давай мировую?»
Я молчал. Во-первых, мне, кажется, лень было говорить. А потом – зачем? Неужели нужен он мне, чтобы я с ним мирился.
«Гад буду, – продолжал он, – мы еще пригодимся тебе. А если скорешуемся, и собачке дело найдем. У-у, зверюка! Хороша!»
Видимо поняв, что говорят про нее. Норма подвела к его горлу свои клыки.
Попив из Волги раз пять, я наконец понял, что могу идти.
«За мной, Норма!» – сказал я и пошел, не оглядываясь, только слыша, как те трое, оббивая, видно, друг с друга пыль, говорили мне вслед какие-то слова, смысл которых для меня не имел значения.
И вдруг я остановился. Меня стреножила мысль: а откуда, собственно, взялась Норма? Может, я грежу. Ведь я отлично помню, что закрыл ее в халабуде на заложку, которую она отодвинуть сама не смогла.
И я, сразу обретши силы, чуть ли не бегом ринулся домой. Вернее, туда, где сейчас жил.
И предчувствия меня не обманули. Еще издали я заметил, как по нашему двору, спонурив голову, ходит мама.
Наверно, у меня не было сил на слезы, потому они не пришли. Не явились и те слова, которые должен я был сказать при встрече с мамой. Все как-то получилось буднично, обыденно и пресно. А может, это мне так казалось одному, потому что башка разламывалась от удара в затылок и где-то внутри спазмами ходили другие боли.
«Как же она тебя послушалась?» – указал я на Норму.
«А разве ты не знаешь, – оказала мама, – на нашей улице сроду секреты в худом кармане носят. Только я Коширину пустошь прошла, как мне уже сообщили, и где ты живешь, и с кем, – она указала на Норму, – и про Мишку стало известно. Жалко его. Цельный был парень. И погиб, как герой. Лишь только не на войне».
Она пристально посмотрела на мою – не очень «смотрогеничную» физию и спросила: «Опять доблести в драках добываешь?»
Я потупился. Мне было стыдно говорить все честно. Стыдно потому, что не хватило характера довести дело до конца. Не сдал я этих дурошлепов ни в милицию, ни куда-либо еще, где бы им ума вставили. Спасовал я, можно сказать, перед ними. Не то что убоялся. Если бы так, то и в драку бы не полез. А сейчас не захотел лишней волокиты.
А мама, оказывается, подождала меня немного, потом подошла к халабуде, отодвинула заложку и сказала: «Иди ищи своего непутевого хозяина!»
И та – по следу – сразу же к Волге кинулась.
В тот вечер мы долго, не зажигая огня, сумерничали. Пока к нам никто не приходил, хотя на улице, конечно же, знали, что ко мне приехала мама.
Мы сидели в потемках и вспоминали довоенную жизнь. А в промежутках между воспоминаниями я кое-что рассказывал – не все, конечно, – из своей жизни.
Погорилась мама, когда я ей сказал, что умерла Марфа-Мария.
«Милушка моя, – сказала, – желанница. Как она тебя в письмах хвалила! Если бы я не знала, что ты за птица, подумалось бы, что ангел к ней с неба свалился».
И еще одну для себя новость я узнал в тот вечер. Оказывается, Савелий Кузьмич был героем гражданской войны и даже орденоносцем. Но только он об этом никому не рассказывал и награду его она только и видела.
Мама, как сообщила, приехала в отпуск. И даже беглого взгляда на меня ей хватило, чтобы заключить, что я больше не должен жить без призора. И через две недели мы с ней обязаны были отбыть в Барнаул.
Говоря откровенно, это меня очень огорчило. Я даже не знал, что именно было дорого мне в сплошь разбитом Сталинграде.
Но ехать-то еще через двенадцать дней, поэтому рано гориться и вздыхать. И потому я, впервые за многие-многие дни, уснул, видимо, с улыбкой, потому что проснулся с праздником на душе. Мама, как в стародавние времена, давно неслышно шлепала по комнате, шепотом что-то говорила сама себе. И, что удивительно, Норма все время сопровождала ее, временами принюхивалась то к платью, то к ботикам, в которые она была обута. Наверно, ее волновали запахи свежести, привезенные в наш прикопченный дух из тайги.
Но праздник в моей душе был недолго. Я еще лежал с закрытыми глазами, когда мама сказала кому-то: «Да, он дома. Проходите, – и, откинув полог, за которым я спал, позвала: – Гена, к тебе тут…»
Тот, кто вошел, потоптался на месте, потом, видимо, на пододвинутую мамой табуретку сел, и она заскрипела под его наверняка тяжелым мужским телом.
Я сперва расщепил глаз, потом, завернув на пологе свиное ухо, в щелку увидел милиционера, угнездивающего на маленькой для его зада табуретке.
«Кто тут хозяин?» – спросил милиционер и, раскрыв летческий планшет, стал мостить его на колено, приготовясь писать.
Мама замялась. Жили мы в чужом доме, и его хозяева, Купцовы, частично погибли, а частично были неизвестно где.
На улице, наверно, было сыро, потому что сапожищи милиционера оставляли грязные размытые следы.
Я даже прислушался, чтобы уловить шелест дождя.
«Знаете, – начала объяснять мама, как мы очутились в чужом доме, – мы здесь жили по соседству. Потом в результате взрыва».
«Это меня не касается, – прервал ее милиционер, – кто хозяин собаки?»
Я вскочил. Теперь мне стало ясно, что пришел милиционер сюда не по поводу драки.
«Вот он, – сказала мама, указав на меня, – мой сын».
Милиционер – с придавом – уселся еще основательнее и сказал бесстрастным, даже скучным голосом:
«Псину треба сдать», – и стал рыться в документах, ища, видимо, ту бумагу, которая предписывала конфискацию у населения овчарок и других породистых собак, наравне с пишущими машинками, автомобилями, мотоциклами и приемниками. Я даже где-то такую бумагу читал. Кажется, еще в Атамановском.
«Как это – сдать?» – сказал я через какую-то паузу, в которую милиционер сумел два или три раза поменять позу и вообще, почти начисто, расшатать несчастную Мишкину табуретку, на которой так любила сиживать его бабушка.
«Просто, – равнодушно ответил милиционер, – я расписку напишу».
«Кто ее имеет право у нас забирать?» – спросила мама, сразу построжев лицом и выструнив тело так, что, видел я, лопатки на спине сошлись вместе.
«Милиция! – ответил он и, чуть подумав, поправился: Советская власть».
«Но ведь ее подарил ему, – она кивнула на меня, – дядя-пограничник!»
«Хорошо, что он ему танк не подарил, – опять заходил задом на табуретке милиционер. – Словом, собаку треба конфисковать».
Все это было настолько неожиданно и вероломно, что первое время я просто не мог прийти в себя. Какое-то наваждение, не иначе. Потом, когда все постепенно приобрело формы реальности, вспомнил слова Савелия Кузьмича: «Прав не тот, кто прав, а у кого больше прав». И вот у меня вроде были права на Норму и, вместе с тем, и не было их.
«Раз она ищейка, – опять пошуршав бумагами, сказал милиционер, – значит, государственная собака».
И тут я вспомнил ту самую справку, которую мне дали в Атамановском. Начальник НКВД так и написал в ней: «Государственная собака». Вот и добралось до нее государство. Потребовало, чтобы поработала на оборону.
А меня, правда попутно как-то, озлило слово «ищейка», которым милиционер назвал Норму. Что-то присно-царское слышалось в нем. Так, помнится, шпиков разных до революции прозывали.
Изнурительно долго писал расписку милиционер. За это время он раз десять порыпел табуреткой, усаживаясь поудобнее, упрел, снял фуражку, аккуратно повесив ее на гвоздь на подоконнике, на котором раньше висела бутылка, куда стекала, обтаивая, со стекол вода, потом, еще задолго до расписки, сломав карандаш спросил совсем по-школьному: «У тебя чинка есть?»
И вот это что-то нашенское, детское, можно даже сказать, родное дало мне слабую надежду: а вдруг он сейчас подымется и скажет: «Ну ладно, пусть она у тебя живет. Все равно до Победы уже недалеко».
Но этого милиционер не сказал. Тупым столовым ножом, который дала ему мама, он долго оструживал карандаш, убедившись, что тот, хотя и не доведен до прежних кондиций, все же может писать, продолжил.
А мы с мамой стояли и смотрели на Норму. Она, видимо подозревая, что гость в доме не очень желанный, насторожив уши, сидела и следила за каждым его движением. А когда под ним взрыдывала табуретка, чуть взвизгивала.
Наконец милиционер отер пот с лица, вздохнул, напялил на себя фуражку и только после этого протянул расписку: «Схорони ее подальше, можа, после войны щенка за нее получишь».
Я остолбенело молчал, потому что сейчас должны раздаться главные слова, ради которых сюда милиционер пришел:
«Ну что ты на меня уставился? – сказал миллионер. – Запрягай ее в сбрую и пройдем со мной!»
Наверно, все же вот это – сугубо милицейское – «пройдем» подействовало на меня так же, как на быка красная тряпка. Я порывисто схватил расписку, исшматовал ее в мелкие кусочки и кинул под ноги милиционера.
«А ну убирайтесь отсюда!» – закричал так, что даже Норма вздрогнула и, зарычав, поднялась.
Милиционер, поспешно ища задом дверь, сказал:
«Добром отдайте! – и добавил уже из коридора: – Хуже будет!»
Я пошел к Ивану Палычу, но не застал его дома. И не посоветоваться я к нему шел, а просто поговорить, отвлечься, что ли, от событий, которые так круто обернули мою судьбу обручами безысходности.
Иду я, утупившись, обо все сразу, что меня постигло, думаю, и – вдруг: «Привет, стукач!»
Поднимаю голову – те блаташи заступили мне дорогу. И Разноглазый – руки в боки – поперед.
Он шарканул ботинком, уступив мне дорогу, и произнес:
«Ну стучи, стучи! Бог услышит и вместо ног спички вставит».
«И скажет, что так было!» – подхватил тот, который тогда носил продавать язя и, видимо, врезал потом мне свинчаткой по затылку.
«А псине твоей, – вновь заговорил Разноглазый, – без нас решку наведут!»
И тут догадка меня осенила. Побежал я домой, сложил кусочки расписки, которые мама замела в угол, прочитал, что фамилия милиционера Пахомов. И – прямым ходом – к начальнику милиции.
Им оказался пожилой майор с лысиной, которую едва прикрывало два десятка чалых волос. Слушал он меня рассеянно, словно ему в сотый раз рассказывал залежалый анекдот. А когда я дошел до встречи с блатышами, которые пригрозили убить Норму чужими руками, даже поморщился.
«Ну короче, короче! – поторопил он и потом вдруг спросил: «Говори, что от меня-то надо?»
«Не трожьте мою Норму!» – выпалил я.
«Какую это Норму?» – насторожился он, словно я поднял вопрос из области, которая никому недоступна.
«Собаку у меня так зовут».
«А-а!» – кажется, облегченно протянул он и стал рыться в бумагах, что в беспорядке лежали на его столе.
«Дульшин моя фамилия! – заторопился сказать я, чтобы начальник не утруждал себя хлопотами поисков.
«Вот так, Дулькин…»
«Дульшин», – поправил я.
«Ну это все равно! – отмахнулся он. – А вот привести собаку или нет – не все равно».
Он посмотрел на часы и заключил:
«В общем, чтобы через полчаса она тут была!»
«Ну почему?»
«В милиции, – поучающе начал он, – не объясняют, зачем и почему. Тут говорят: «Надо!» Усвоил?»
«Не имеете права!» – опять поднял я голос до петушиного крика.
«Пахомов!» – крикнул начальник в чуть отщеленную дверь, за которой явно кто-то стоял.
За моей спиной вошел милиционер и стал рядом со мной так, что я видел только его ноги. Тут пудовые сапоги не оставляли темные – с размывами – следы, как у нас в комнате, хотя сейчас Пахомов только что пришел с улицы, где все еще шел дождь.
«Почему он пришел сюда? – кинул начальник в меня пальцем. Не указал, а именно – кинул. – Неужели нельзя было сразу все объяснить?»
Его голос сходил на ворчливость.
«Разрешите доложить!» – подвытянулся Пахомов, хотя живот не давал и намека на стройность.
И он стал говорить обо всем с самого начала, то и дело сдвигая на живот свой летчиский планшет и вычитывая через его целлулоидную перегородку все то, что легло на бумагу в форме протокола и другого бюрократического чтива.
«И ты порвал расписку?» – спросил начальник тоном, словно я ограбил Государственный банк, когда Пахомов дошел до финала его пребывания в нашем доме.
«А вы идете на поводу у преступников!» – крикнул я, как потом поразмыслю, явно лишнее. Но, откровенно говоря, блатыши не зря намекали, что с Нормой расправятся другие.
Наутро Пахомов пришел к нам снова. На этот раз не один. С ним еще трое милиционеров припожаловали. Да еще с сетью.
Завидев их в окно, я понял, что они собираются взять Норму силой.
И тут во мне появился какой-то азарт. Так, наверно, ведут себя те, кому, как говорится, терять нечего. Потому я потихоньку открыл дверь и коротко приказал: «Фас!»
Норма, в два широких прыжка очутилась во дворе, вертанулась через спину, как, видимо, была учена на случай, если в нее будут стрелять, и кинулась на милиционеров.
Те трое, что были и легче Пахомова и явно помоложе его, успели выхватиться на улицу, а Пахомов, замешкавшись, стал было рвать из кабуры наган, как тут она его свалила ударом лап в грудь, катанула, как пустую бочку, к изгороди, которую я только что соорудил и, зарычав, стала подбираться к горлу.
«Помогите!» – закричал один из милиционеров.
Я степенно вышел на крыльцо, позвал к себе Норму и сказал несколько примятому Пахомову и перепуганным его спутникам:
«Вы чего, забыли, что у нас вся рыба выловлена?» – и вынес им сеть, которую они впопыхах бросили у крыльца.
А вскоре к нам приехал майор. С ним я объяснялся на улице, потому что Норма сидела под запором в доме.
Начальник сперва даже в ласковость ударился:
«Здорово ты их тут припугнул! – рассмеялся он. – Прямо шутник и – все. Если со стороны посмотреть – спектакль».
Но это была – присказка. Потом он, постепенно строжея голосом, рассказал, что бывает тем, кто не слушает милицию и, стало быть, нарушает закон.
А кончился наш разговор на крике. Майор обозвал меня пособником врагу, а я его – чуть ли не тыловой крысой.
В ту пору я не знал другой власти, кроме милиции, поэтому не видал, кому можно было пожаловаться на ее произвол.
Мама уже заводила со мной разные разговоры.
«Может, отдадим ее, Ген? – начинала она. – Там она будет бандюг разных отыскивать».
«А их нечего отыскивать! – опять до петушиного дишкана возвышал я свой голос. – Они все сейчас в милицейскую форму одеты!»
Я, конечно, говорил глупость и, если честно, совсем не верил этим своим словам. Но – в запале – что только не шлепнешь.
И, как я сперва думал, тоже в запале, начальник пригрозил:
«Тогда мы ее застрелим, как собаку!»
«Попробуйте!» – дерзко ответил я.
Майор понизил голос:
«И что будет?»
В нем, как я пойму, когда повзрослею, горел такой же юный спорщик, потому что, хотя и было ему много лет, по сравнению со мной все же жило где-то в душе мальчишество, когда хочется, как говаривал Савелий Кузьмич: «Обваляться, но не поддаться».
«Тогда увидите!» – неопределенно, а оттого и зловеще пообещал я.
Все случилось неожиданно, хотя у меня из головы не шла угроза майора. Пришел я с работы. Стою, руки мою под умывальником, который кого-то угораздило прибить к живой яблоне. Норма, услышав мой голос, заскулила и заскреблась в запертую дверь.
«Ну подожди малость!» – успокоил я ее. Но она, видимо, приняв мои слова за зов, забежав в комнату, вскинулась на подоконник.
И в это время раздался сухой ломкий выстрел. Я, кажется, влетел в дом вместе с рамой. Во всяком случае, точно помню, что скинул ее со своих плеч. Норма, на вихлючих ногах, крутилась на одном месте, словно пыталась догнать свой хвост. Потом, подвихнув голову, упала и из ее глаз закапали на пол медленные тяжелые слезы. Умерла она на моих руках.
На выстрел во двор сбежались пацаны с нашей улицы. Потоптались у закрытой двери. Потом Юрка Чуркин первым подошел к окну.
«Кто ее? – спросил тихим голосом и добавил – на ложном порыве: – Я бы их!..»
Я ничего ему не ответил, хотя знал, что из Чурки и жалельщик, и заступник липовый.
А потом пришли те слова, не испугаться которых мог только безумец.
«Гива! – позвал я Ивана Гордеева. – Узнай, где он живет. Его фамилия Пахомов».
Зато Бугор по-своему рассудил мое состояние. Коротко куда-то сбегав, он заявился с бутылкой в рукаве.
«Хлебни! – сказал. – А то весь зеленый сделался».
Я отпил глоток, потом еще. Водка укрепила решимость. Мы хотели похоронить Норму в Мишкином саду. Но тут внезапно запротестовала мама.
«Здесь же Мишина бабушка лежит!» – устыдила она меня.
А мне, если откровенно, Норму было жальчее многих людей. Я не мог в ту пору понять, кем для меня была эта собака. Конечно же, не в простой привязанности и преданности дело. Она, как я уже говорил ранее, была частью моей, в общем-то далеко не легкой и не безгрешной судьбы.
Я весь вечер просидел на порожках. Несколько раз выходила меня звать мама, но я упрямо ждал Гиву.
Он пришел часу в двенадцатом и молча опустился рядом со мной.
«Где?» – спросил я ровным тоном.
«За Яблочным, в яру», – ответил он.
«Ты хорошо запомнил дом?» – поинтересовался я, поощряя пожатием руки его, как потом пойму, тоже преступные действия.
«А если не он?» – осторожно спросил Гива. Так осторожно, словно от его вопроса мог упасть потолок.
Я не мог объяснить, что мне подсказало: его это пуля. Больше некому. Не будет же сам майор заниматься такой черновой работой.
«Но он мог приказать?» – задал я самому себе вопрос. Но тут же расплавил его в жарыни злобы, что подкатила под горло.
Наутро первым ко мне прибежал Чурка.
«Ну чего ты удумал?» – спросил.
«Ворота суриком покрасить», – ответил я.
«Зачем?» – насторожился Юрка. Он всегда «клевал» на дешевую «покупку».
«Чтобы козлы меня десятой дорогой обходили».
Хлюпнул он носом, уморщил его, как при чохе, и промолчал.
Гляжу я на него: вылизанный он какой-то весь, словно корова его языком причесала и кольцо кудрявое на лоб слюной прилепила.
Не любят у нас на улице Чурку. Враждовать с ним никто не враждует, но и дружбы не водит. Так – неприкаянно – и мотыляется он промеж пацанов.
Мы с Гивой дважды обошли дом Пахомова. Находился он у самого края оврага. Забором был огорожен только с двух сторон.
Потому что слева, на всю глубину двора, стояли соседские дома, катух и сарай-дровник. А сзади и вовсе нечего городить. Там был – яр.
Со дна оврага мы оценили, что двор Пахомова стоит на порядочной верхотуре, на которую взлезть будет не так-то просто.
Стали думать.
«Может, петлю вон на тот столбик накинем?» – показал Гива.
«Тоже мне табунщик! – высказал я сомнение и добавил: – Накинуть-то можно. Но только не с твоей ухваткой».
И, как потом пойму, зря обидел друга. Он эту науку где-то постиг, без отрыва от нашей улицы.
Теперь надо было узнать, есть ли на пахомовском подворье собака. Вообще-то не должна быть. Иначе бы стрелять в Норму у него рука не поднялась.
Однако через яр было видно, что в левом углу что-то наподобие халабуды имеется.
И тут нас внезапно разыскал Юрка Чуркин. С биноклем.
«Нате, – говорит, – не ломайте зря глаза».
И я сразу же увидел конуру. И не только ее, но и собачонку рядом с ней. Маленькую такую, пузатенькую, чем-то на Пахомова похожую, только в миниатюре.
«Значит, утремся рукавом и подумаем, что отобедали», – мудрено выразился Гива. – Во двор без шума нам не попасть».
«Ну тогда швыряй свою петлю!» – озленно выкрикнул я.
И он – швырнул. И точно накинул ее на тот самый столбик. А через нее протянул телефонный кабель, на который я потом – уже ночью, – укреплю груз.
Вечером, снова появившись напротив дома, мы заметили: веревка и кабель никем не замечены. Значит, все идет по плану.
По чьему-то наущению или по своей дури, но Бугор каждый день стал носить мне бутылки с водкой.
«Чтобы ты не остыл», – сказал для непонятности.
И я, время от времени, прихлебывал из одной из них, что у меня во внутреннем кармане побулькивала.
Сделал я несколько глотков и тогда, когда – где-то среди ночи – привязал к тому самому кабелю противотанковую гранату, две ГГД и – «лимонку» в придачу. У нее-то как раз и поослабил колечко, чтобы его можно было смыком выдернуть, потянув за привязанную к нему леску из конского волоса.
В овраге мы протолклись до утра. А когда чуть стало развидняться, Гива на свой наблюдательный пункт подался. Мне его хорошо было видно.
Операция в общих чертах сводилась к следующему. Гранаты подтянуты к самому нужнику. Выйдет по утрянке Пахомов по неотложной надобе, и – тут я его и оголоушу.
И вот – жду. Соседи все давно попроснулись. Какой-то идиот, словно ему нет уборной, прямо с верхотуры чуть ли не в глаза мне посикал.
А Пахомов все спит. И знака мне никакого Гива не подает.
Потом – слышу – кто-то наверху зашебуршал. Гляжу на Гиву, сигнала нет. Значит, не Пахомов. И – точно. Голос женский, должно, собаку укоряет: «И когда ты перестанешь под ногами вертеться?»
Я отхлебнул большой глоток и вновь затаился. И вдруг – сигнал. И я шаги услышал. Тяжелые. С придавом. Наверно, обут в те же сапоги, которыми наследил в нашем доме.
И я опять проверил себя на слюнявость. Подумал, вот сейчас взлетит он на воздух, и не будет знать, кто это его покарал.
Но еще один глоток из бутылки одервенил мускулы решимостью.
И я, чуть пришагнув к пещерке, в которую – по нашему замыслу – должен нырнуть, высмыкнув кольцо.
Вот, слышу, дверь заскрипела. Видать, Пахомов зашел в уборную, и я, прошептав присловие Савелия Кузьмича: «Прости мя, боже, так твою мать!», дернул за леску.
Взрыв уронил мне на голову такую тяжесть, что я не упал, а закатился в ту самую пещерку, из которой когда-то народ выбрал глину. И уже оттуда увидел, как на дно оврага летят какие-то дрючки, щепки, даже солома.
В домишках напротив, заметил я, все окна высадило. А стены стали в каких-то щербинках. То ли их осколками посекло и то ли Пахомычевым дерьмом вылепило.
Как и договаривались, домой сразу не идем. Сперва – отдельно друг от друга – побродим в окрестностях нашей улицы, поспрашиваем у пацанов, что слышно и как дела. И, только после этого убедившись, что за нами нет хвоста, заглянем на подловку к Гиве, где он оборудовал надежное лежбище.
Поблукал я по-над Волгой часа полтора или два и только собрался в нашу улицу ступить, девчонка соседская мне наперерез чешет.
«Гена, – говорит, – а тебя милиция ищет!»
«А Гива где?» – спрашиваю, охолодав грудью.
«Его уже увезли! – отвечает. – На машине. И вздохнула совсем по-взрослому: – Везет же людям!»
«Ты сама видела Гиву?» – осторожно спрашиваю девчонку.
«Ага!»
«Он чего-нибудь говорил?»
Она – опять по-взрослому – потерла ладошкой лоб.
«Нет, – сказала она наконец, – ничего не говорил. Он кричал только кому – не знаю: «Рви!» И еще про засаду в Мишкином доме чего-то упомянул».
У меня горели подошвы, так хотелось поскорее дать стрекача.
А девчонка, уже отойдя от меня порядочно, вдруг крикнула:
«Еще он крикнул: «Нас предал Чурка!»
Значит, все же Юрка! Это почему-то успокоило, и я, не таясь, побрел, как в этих случаях говорят, куда глядят глаза.
Как очутился на вокзале, сам не знаю. Но только вид поезда заставил моментально подумать, что надо уехать. Но куда? В Барнаул? Но мама-то еще здесь. А, потом, это не ближний свет. Пока доедешь, и на погремушку костей не останется.
И вдруг мысль в душу ударила: «А были ли у Пахомова дети?»
И так погано стало, словно не месть я совершил, а предательство.
Полез я в карман, чтобы отхлебнуть из бутылки. А она – пуста. Видно, выплеснулось все, когда по ярам огинался.
Походил я немного возле вагонов, гляжу: моряки возле крана с кипятком сгрудились. Я – к ним.
«Слышали, – говорю, – начмила пацан подорвал?»
Я взял повыше рангом, чтобы хоть этим огорошить.
«Да мне один комар в ухо свербел! – сказал здоровенный матрос с тремя лычками по полю погончика. Так, что даже не видно, какого он у него цвета.
Подкинул я тут еще подробностей. Только вкратце – сказал все, как было.
Загудели моряки, кто что говорит, а один, похлопав меня по плечу, произносит:
«Не тут воюешь, браток!»
«А где же мне воевать?» – наивно спросил я, хотя отлично знал, куда все стежки-дорожки сейчас навострены.
«А то давай махнем с нами на Север?» – сказал тот, что про комара байку выдал. – Там тебя в школу юнг определим».
И уже через полчаса в вагоне, который толкало, болтало, качало, и «почти не везло», как выразился тот самый высокий моряк, которого звали Вася, я бацал «Яблочко», пел – какие знал – расхоже, военного времени, частушки и примерял поочередно: бескозырки почти со всех голов, утонув в них по самые уши, Васины брюки, про которые он сказал, что они «шире Черного моря».
С пути я черкнул маме два слова, чтобы она не беспокоилась, по почерку узнав, что это я пишу, потому что подписи я не поставил.
И еще. Мне хотелось забыть решительно все, что со мной было или случилось на моих глазах: и то, как шевелится под боком при бомбежке земля, и то, как горит живьем человек, и то, как глохнут и слепнут бабы, хотя и остаются в общем слухменными и зрячими, от непонятного мне чувства, и то, как копошатся на дне оврага старухи, обирая убитых, и то, как смыкнул я ту самую леску, обрушив себе на голову землю, а на задницу – приключения.
Если ноги мои сколько-то вихлялись в плясе, может, больше из-за того, что не перестали дрожать, то с песней у меня явно ничего не выходило. Мой голос был хил, как мне казалось, не от голодной немощи, а от горечи, которая накопилась от водки, что я пил все последние дни, и от угрызений, что кололи меня тяжелым неотвратимым, как все содеянное, вопросом: «А были ли у Пахомова дети?»
Поезд все шел и шел. И плыла следом за ним песня, выпущенная на волю щедрой матросской душой.
И когда, спев «Раскинулось море широко», моряки умолкли, Вася, не дав и дальше утонуть взорам в грусти, навеянной песней, закончил ее своим – шуточным – вариантом:
Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут, она зарыдает.
А сын в ресторане сидит за столом,
Последний бушлат пропивает.
А где-то ближе к полночи услышал я разговор Васи и еще кого-то, по-моему, того усатого старшины, сказавшего, что я не там воюю.
«Складно заливает, малый», – рокочет Васин басок.
«Ну что ж, может, писателем станет, – поддерживает его усач. – Станюкович, сказывают, тоже блажью маялся».
«Ну ничего! – говорит Вася, укутывая меня бушлатом. – Главное, от бездомности теперь уехал».
Мне хочется возразить, но язык отяжелел оттого, что я пытался повторить все песни, которые пели моряки, и голова звенит от легкого сонливого безмыслия, и утопаю в чем-то грохочущем и теплом, наверно, это море. «Но почему на Севере оно такое теплое?» – успеваю подумать я и засыпаю, как потом пойму, без сновидений.