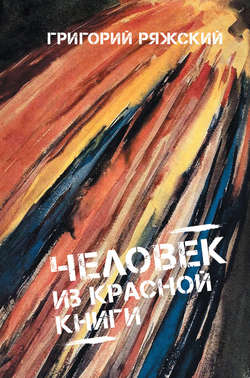Читать книгу Человек из красной книги - Григорий Ряжский - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ 1
10
ОглавлениеЭто было второе по счёту потрясение для Адольфа Цинка. Первое он испытал, когда отец, Иван Карлович, вернулся в сорок шестом из Спас-Лугорья, с их изначальной родины, куда он через год после объявления победы над немцем убыл с проверкой: как там их дом, какие вообще дела в родных местах и что всем им делать в связи с изменившимися обстоятельствами жизни – возвращаться домой, под Томск, если Адика отпустят без осложнений, или ещё какое-то время побыть тут, в этом чужом Казахстане, отбывая самими собой назначенную повинность за свою немецкую фамилию и слабые сыновы глаза.
Вернулся, сел на стул, помолчал. Сообщил, глядя в щербатый пол:
– Нет у нас, Адинька, ни дома, ни картин твоих никаких. Одно пожарище и больше ничего. Забора, и того не оставили. Был Спас да весь вышел, никого не спас, одно только названье от него. И за что, Адик, нам такое?.. Ведь как жили хорошо, дружили, что русский, что немецкий, что любой другой. Не было этого ничего, что стало, все же раньше были свои, сибирские, жили, деток плодили, трудились в меру сил, и думать никто не думал, что поступят с нами, как с фашистами. – И заплакал.
Никогда ещё не было ему так жалко никого и ничего, как отца в тот ужасный для них день. Даже всех картин, которых за десяток лет, пока писал, набралась отдельная светёлка в их семейном гнезде, не так жалко было против отцовских слёз. Иван Карлович, взрослый, добрый и всё ещё сильный мужчина в годах, плакал, сидя на казённом стуле, в чужом, неуютном и вечно недотопленном бараке при меднорудном разрезе. Одна лишь двухлетняя Женька улыбчиво посапывала в своём углу, не ведая, о каком гнезде говорит её папе дед. В тот же день, ближе к вечеру, ему вдруг почудилось, что глаза его, и так недоделанные и проблемные, стали видеть ещё слабей против прежнего; но он не придал этому значения – новость, какую привёз отец, затмила всё остальное и была главней очков. Тот факт, что, кроме их дома, сожжены были ещё пять, и все – немецких поселенцев, что исключало любую случайность, добавил известию общей горечи. Таким образом, вопрос «оставаться или уезжать» решился сам собой – места для другой жизни всё равно больше не имелось, и казахстанская часть семейной биографии Цинков продлилась ещё на пятнадцать тягомотных и, по большому счёту, безрадостных лет.
Столько, сколько себя помнил, он всегда видел ужасно. С самого детства зрение не задалось, и он таскал их, не снимая, эти толстые глазные стёкла, закованные в нелепую оправу. Выбирать не приходилось, спасибо, что оказалась найденной по размеру та, за которой отец, отложив свои часовщицкие дела, сплавал в Томск, уже после того, как Адику подобрали диоптрии в ходе заезжего врачебного обследования поселковых пацанов. Там же заказал и стёкла, и с этим уже было попроще, какие были надо, те и привёз. Сказал, на, сын, носи и не снимай, иначе совсем по жизни пропадёшь. И про Красную армию забудь совсем, – не для тебя она теперь, таких в неё не берут, такие врага не заметят, и толку от вашего подслеповатого брата не будет родине никакого.
Ему нравилось жить на той земле, было вольно и душевно, с самых ранних пацанских лет. Было куда себя приспособить, с чем слиться, за что зацепиться глазом, про что помечтать. Жили бедновато, но нескучно, трудились. И пока не пришли забирать излишки, у сельских, кто работал по-честному, хватало и кормиться, и про запас. И часто было им жить весело: с вольницей, с лёгкостью. Многие дружили меж собой, честно, хорошо – не так, как стало после, когда Советы окончательно разогнались, потеряв всякий стыд и совесть в отношении простого человека, не партийного, кто не из их хитрой и ненасытной своры.
Но Адик не так уж порой сокрушался о тех минувших временах: самые главные, наиболее крупные, серьёзные и настоящие свои работы написал он тут, в Каражакале, чередуя трудности, что выпали на семью, со счастьем от своего же труда, время на который уделял по остатку, мечась днём и ночью между карьероуправлением, меднорудным разрезом и неутихающими заботами, несмотря на всю помощь отца по уходу за дочкой Женькой.
Часто, хоронясь в силу неодолимой привычки делать это, когда рука его касалась чужого, забирался после тяжёлой смены на местную свалку, куда нередко самосвалами свозили с карьеров утиль. Оттуда, отбрасывая по пути разный хлам, пробирался ближе к середине кучи, перешагивая через обрезки некондиционных резиновых сапог, обломки лопат, кабельные обрубки, драные проволочные перекати-поле, выискивая всё, что могло с наибольшим приближением к оригиналу стать заменой холста в очередных его художественных опытах. Это был такой же утиль, недорваный, недорезанный, не дотёртый до дыр – робы из грубой кирзы, полагающиеся рабочим с меднорудного разреза. Их выдавали пару на год – дело было вскоре после окончания войны, – после чего отбирали и вывозили на свалку, чтобы, не дай бог, трудовой люд не поживился уже и так употреблёнными до крайности обносками. Но для Адольфа это был клад, залежь, скважина с ничейным и полезным добром. Он утаскивал, сколько получалось, затем вырезал спиновую часть из более-менее уцелевших и выкроенные таким образом куски приводил в окончательный порядок. Уже под утро, незадолго перед новой сменой, вымачивал нарезанные квадраты и натягивал на сколоченные им подрамники, и грунтовал, раз и два, готовя под очередной пейзаж или натюрморт. И уже было неважно, что живёт он в гиблых местах, где днём и ночью воют ветры, а перед самым утром до ушей доносится звук лагерного гонга, от которого сжимается всё внутри.
Он писал степь, находя в ней красоты, которые даже его удивительным зрением, приспособленным видеть красоту неброскую и неочевидную, ухватывались не сразу. Скудная поросль, разнобойный, иссушенный солнцем и недостатком влаги травостой, пожухлый мелковатый ковыль с шелковистыми перистыми остями, прошлогодний бурьян, поникший, но всё ещё живой, недобитый зимней лютостью, с едва оживающими к весне молодыми ростками, с трудом пробивающими себе новую дорогу к жизни и свету… Но всмотришься и заметишь: там и сям вдруг прорастают голубые, синие и лиловые волошки, веселя своим бесцеремонным колером этот безрадостный, на первый взгляд, угрюмый и неохватный глазом степной ландшафт. И тут же – порыв ветра, сухого, острого, колкого… и вот уже над бесконечной равниной, застилая глаза, спирально закружилась пыль, мутя собою воздух и свет…
Всё это, будучи многократно умножено на художественное воображение Адольфа Цинка, чрезвычайно волновало его, будило в его болезненной, неравнодушно устроенной середине необыкновенную страсть, желание тот же час охватить всё это глазами, кистью, карандашом, углём, тем, что окажется под рукой… Оно имело над ним неодолимую власть, противиться которой не было ни сил, ни нужды. Наоборот, хотелось покориться, слиться с этой распроклятой чужой землёй воедино, стать частью этой равнины, этого непрозрачного воздуха, этого низко висящего над пустынной землёй неба, то ясного, видного, сильного, а то вдруг мутного, призрачного, пустого…
Он пытался выловить единственно нужный ему цвет, конечный, последний, и когда это получалось, у него начинало пульсировать в висках, слабо, едва ощутимо, и тогда он знал, что попал, что сошлось, совпало. Это был верный знак успеха, никем, впрочем, кроме него самого, не жданного. Затем шёл дальше… то добавляя белого, чистого… то разбавляя его же седым, пустынным, никаким… Наполнял пейзаж деталями, малыми и редкими, не хотел перегружать композицию, уводя работу от изначально задуманной сдержанности, скудости… такой была и сама эта степь, эта наполовину выжженная земля, уже почти пустыня, но прекрасная, хотя и не ставшая ему родной даже после долгих лет жизни на ней.