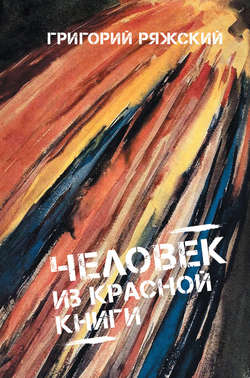Читать книгу Человек из красной книги - Григорий Ряжский - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ 1
7
ОглавлениеОна не была одной из них, учёных или женщин-конструкторов, составлявших его ближний круг, внутри которого уже вряд ли оставалась хоть одна незанятая научная дама, которая в разное время, так или иначе не пыталась бы заручиться его мужским доверием. Его обожали, его боготворили, его боялись, но о нём и мечтали. Он был Бог, они же все были земные.
А она, Евгения, просто служила в одном из его КБ чертёжницей, недавней выпускницей Карагандинского Политеха, и по своей работе не имела практически ни одного шанса хотя бы единожды пересечься с ним по прямой служебной надобности: слишком уж скромен был вклад Жени Цинк в их условно общее дело. Единственным, что могло как-то связать с ним таких, как она, были редкие и довольно бессистемные забеги отца-создателя ракетной техники к конструкторам и чертёжницам, в их епархию, расположенную от его главных дел так, что требовалось еще потратить время, чтобы добраться к ним.
Иногда он злился по-настоящему, устраивал разнос, срывался с места и нёсся по филиалам, делал угрожающий проверочный круг, хотел лишний раз на месте лично проконтролировать читаемость бесконечных рабочих чертежей, их соответствие его строгим установкам, проследить собственным суровым глазом порядок и точность исполнения. Мало кому доверял, всё больше тянул сам, не хотел упустить ни одну мелочь, себе же самому не разрешал проявить даже минутную слабость или поверить на слово, когда возникали малейшие сомнения. Знал – непозволительно терять темп для неоправданной последующей доводки узла, от которого зависит плановый ход сборки. Спешил. Хорошо понимал, что не успевает с задуманным двигателем следующего поколения для своего же носителя. Возраст. Общая усталость. Сердце это чёртово, в конце концов. И всё это при отсутствии единственной женщины в жизни. Да и откуда ей было взяться? Не в сталинском же Магадане строгого режима, и не в сменившей его вскоре владимирской «шарашке», где пришлось провести шесть, считай, пропащих для дела и жизни лет. Только потом, миновав страшный промежуток, одна за другой стали осуществляться его мечты: первый в мировой практике трёх- и четырёхступенчатый двигатель, первый спутник, первый автоматический космический аппарат для полёта на Луну, первый космонавт и практически сразу вслед за ним ещё двое – экипаж.
И тут – она, та самая, не найденная прежде, возникшая из ниоткуда, просто высунувшая из-за чертёжной доски молодую светловолосую голову, чтобы лишний раз взглянуть испуганными глазами на «великого», на самого Царёва, – хотя никто из ближнего начальства и не афишировал, кто у них там кто в головной конторе и как выглядит. Да только всё равно все и так знали, что вот он и есть Главный, этот немолодой дядька с пронзительным, но заметно усталым взглядом умных бледно-серых глаз, с порывистыми движениями своего плотно сбитого корпуса, с мягким, но упругим голосом, не предполагающим возражений, – тот, от кого всё зависит, кто делает так, что всё вращается, движется и летает.
Другие из местных кабэшных жались при виде него, трепетали, старались лишний раз не выставиться, дабы не попасть под горячую руку. Увидит чего не так, глаз вперит, мысленно прогонит туда-сюда в голове своей гениальной все возможные последствия, после чего не скажет ни слова, круто развернётся и резко покинет помещение. А дальше… Дальше – всё, мало не покажется, и так бывало не раз и не два.
А она глянула и тут же напоролась на его встречный внимательный луч. И была вычислена и одарена улыбкой, хорошей, человеческой, призывной. Так ей показалось тогда, в тот счастливый день, переросший в их первую ночь уже через неделю после этого случайного пересечения глазами. И сразу перестало быть страшно, отпустило, и она расслабилась, хоть вообще-то не умела этого делать. Он подошёл, кивнул, едва заметно потянул носом, воткнулся глазами в чертёж. Хмыкнул, сунул руки в карман и развернулся к ней лицом. Ей снова захотелось провалиться сквозь землю, но она устояла, более того, постаралась сделать вид, что этот начальственный визит должного впечатления на неё не произвёл и от дел текущих особенно не оторвал. Спросила, не опуская глаз:
– Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь. Нам тут скрывать нечего, всё на бумаге, сами видите. – Затем поднесла карандаш к чертежу и провела линию, доведя её до нужного места. И вопросительно посмотрела на гостя. Свита, что сопровождала, замерла, ожидая вердикта.
– Хорошая работа, – сказал Главный, – всегда бы так… – Улыбнулся, развернулся и энергичным шагом пошёл на выход. Что при этом имелось в виду, осталось загадкой, но вдумываться не стали – главное, пронесло.
По женским меркам ей было тогда в самый раз, Женечке, Евгении Адольфовне, – двадцать три, чуть больше. Однако в известном отношении у неё не было ещё никого и никогда, практически стерильна была в этом обидном для любой не ущербной женщины смысле. С другой стороны – тоже ведь как-никак секретчица, хотя и не такая уж большая, но всё же с допуском и личной завитушкой на грозном ватмане. И ничего, что допущена к одному лишь только узелку, да и не к самому, правду сказать, ответственному: что-то там сбрасывающее наружу избыточное давление в нужный момент, размером с детский кулачок, на двух несекретных пружинках и одном типовом клапане.
А он, великий, улыбнулся всей своей секретной личностью и одновременно глаз в неё воткнул, отдельно от всего лица, остро, пронзил, будто съел всю её целиком, заглотнул через доску кульмана, без остатка, – чертёжницу, чудом затесавшуюся в его КБ в противовес своему не слишком надёжному отчеству и не так чтобы нейтральной фамилии «Цинк».
Дальше было проще, чем могло быть. Просто велел узнать и к вечеру доложить семейное положение этой сотрудницы плюс сведения по остатку. Главное, хотел убедиться, что отсутствует сам факт непреодолимости, малопонятный для обычных смертных, но решающий персонально для него всё и вся.
Оказалось – Цинк, странная такая и немного суровая, хоть и немецких корней, но и не слишком рисковая фамилия у чертёжницы той, светленькой, что так глянулась и, кажется, запала на него с первого взгляда. Подумал ещё: раз работает, то наверняка проверили, выявили, скорей всего, вековую принадлежность к отечеству и допустили до его КБ. Остальное – за ним. Попутно чертыхнулся, понимая, что, как ни крути, а – заложник, как все они, но только в гораздо большей степени. Точно знал, даже не загружал себе голову сомнениями такого ряда – не сойдётся что, просто не позволят, сделают так, что исчезнет из поля видимости, и больше не найдёшь никогда, так что спасибо им в каком-то смысле, что непрошенную заботу проявляют, время его берегут, фильтруют жизнь через собственное поганое сито и мягко подправляют в нужную им сторону. А лучше бы не было их совсем. Глядишь, шёл бы с заметным опережением этих дурных, почти преступных в его глазах планов, которые сам же вынужден строить с учётом интересов государства. Их – не его.
Он написал ей короткое письмо, от руки: запечатал в конверт, тоже не в свой, факсимильный, а в простой, обезличенный, и попросил помощника отвезти и отдать ей в руки, без комментариев.
Он писал:
«Уважаемая Евгения Адольфовна, я знаю, что Вы меня «увидели», то же самое могу сказать и о себе. Если я ошибаюсь, то заранее прошу Вас меня простить. Это вовсе не означает, что я самонадеян больше того, на что привык рассчитывать: просто я далеко не молод, как Вы знаете, и уже не могу разрешить себе затевать игры не слишком искренние. Вы мне понравились, причём очень, и я знаю, что Вы свободны. Не буду лукавить: пишу Вам в надежде обрести взаимность, хотя и понимаю, что шанс мой невелик, учитывая возраст и мою хорошо известную Вам занятость по работе. Она же, как Вы, наверное, догадываетесь, навсегда останется таковой.
Евгения Адольфовна, если это моё короткое письмо не вызовет у Вас отторжения, то очень надеюсь, что Вы сразу черкнёте пару строк и передадите конверт моему помощнику. Затем, если не станете возражать, я Вам позвоню. П. Царёв»
Самое удивительное, что записке этой Женечка почти не удивилась. Не то чтобы она реально ждала, что с ней произойдёт вскорости нечто подобное, или что, по крайней мере, этот невероятный сам по себе факт подтолкнёт её к переоценке собственной женской личности, но просто некая совершенно необъяснимая природой подсказка той же ночью втиснулась ей голову, вдавив её вместе с бигудями в подушку, и заставила мысленно, секунда за секундой, пересмотреть его появление на её скромных двух с половиной квадратных метрах. И ещё – возникло чувство, новое, отдельное от всего того, что было раньше. Поняла вдруг, что тоже женщина, и что достойна даже столь высокопоставленного мужского интереса, и что узелок её на двух пружинках – лишь малая и неответственная часть той большой и прекрасной жизни, в которой полноценного места ей прежде не находилось.
Она перечитала письмо трижды, тут же, у кульмана, впитывая глазами непривычные извивы его жёсткого, с обратным наклоном почерка и стараясь по возможности не показать лицом своего внезапного удивления или какого-либо переживания. Она просто вполне по-деловому кивнула, призывая вручителя обождать, и тут же принялась писать ответ, тем же самым карандашом, каким вычерчивала свой секретный узелок, думая о том, что, так, наверное, поступали господа из прошлых веков, посылая кучера с посланием к княгине, чтобы непременно «быть у них на балу в четверьг осьмнадцатого к вечеру».
Написав, протянула помощнику и нейтрально отвернулась, с усилием продемонстрировав своё якобы равнодушие к происходящему. Тот сунул письмо в карман, негромко попрощался и быстро испарился. Собственно, сам он в этой ситуации был всего лишь дежурным исполнителем хозяйского поручения. Никто ничего не понял, помощника этого в КБ не знали, до этого дня его никто здесь не видал. У неё слегка дрожали колени, но она собралась, сумела быстро унять в себе эту дрожь и начала заново оттачивать испорченный писанием грифель. Хотелось чего-то особенного, на душе было тревожно, но тревога та не была обычной, скорее, она напоминала предстартовую дрожь перед забегом, когда знаешь, что точно победишь. Или проиграешь – смотря как оценивать. И тогда она придумала, что непременно купит сегодня в кабэшном буфете банку камчатских крабов, бутылку пузыристого сидра, два шоколадных мороженных батончика в вафлях и устроит себе пир на одного, верней, на одну, на самою себя, в предвкушении этой сладкой, в самом скором времени предстоящей ей неизвестности.
Евгения Цинк писала:
«Уважаемый Павел Сергеевич, я благодарю Вас за Ваше письмо, которое – не стану этого скрывать – пришлось мне по сердцу. Вы правильно угадали, я на самом деле обратила на Вас внимание, когда Вы появились у нас в КБ, и поэтому извиняться Вам не за что, даже наоборот, я хочу ответить Вам признательностью и сказать, что Вы, безусловно, вправе рассчитывать на мою взаимность, не думая ни о каком шансе. Этот шанс Вам просто не нужен, потому что можете считать, что уже сейчас имеете моё согласие. Правда, пока сама не знаю, на что: надеюсь, вы сообщите мне об этом при встрече. И, конечно же, звоните в любое время, я буду ждать вашего звонка. Спасибо… Евгения Цинк»
Он позвонил на другой день, после обеда. Решил, что раньше не следует, нужно дать ей какое-то время обдумать решение, чтобы почти безрассудное и довольно двусмысленное положение, в которое он ставит обоих, в итоге не завершилось конфузом с обеих же сторон. Сам он к тому дню уже не сомневался в том, что она – его, хоть и удивлялся своей легкомысленности, ни с того ни с сего затащившей его на последнем излёте мужских лет в романтическую и для самого же себя малообъяснимую историю.