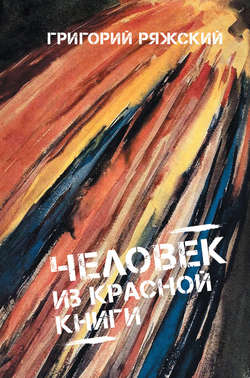Читать книгу Человек из красной книги - Григорий Ряжский - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ 1
11
ОглавлениеВообще он рисовал, сколько себя помнил. Рисовал, писал, даже при помощи пальцев, и всегда экспериментировал с цветом. В качестве основы в ход шло всё: бумага – пустотными промежутками меж газетных строчек, обрезки стекла – для пальцевой живописи, картон всякого вида, от упаковочного, листового, до выкроенного из пустых, как правило, подобранных в мусорных местах конфетных и прочих коробок, а также куски случайной ткани, заменявшие холст, которые он сперва тщательно отстирывал от грязи, разглаживал чугунным утюжком и разделывал на прямоугольные куски, чтобы уже после писать по ним, чем получится. Но главным материалом всё же служили мешки из-под картошки и угля. Они заменяли холст как есть, без учёта зернистости. Да и не знал он, вообще в ту сторону не думал, что бывает холст мелко или крупнозернистый, как не ведал и о текстуре его, тонкой или средней выделке, об узелках в ткани и разных видах плетения её нитей, о специальных вкраплениях в само тело этой ткани, потребных для пущей убедительности пастозных мазков кисти или мастихина. Никто не сказал ему, не открыл, что и пористость важна, и гибкость холста, и проклейка его, и грунтовка, и последующая шлифовка, и многое-многое другое, что позволяет чрезвычайно усилить воздействие руки и кисти человека на зрительное и эмоциональное восприятие его работы.
По обыкновению, он грунтовал их самодельным заменителем образцово составленной смеси и, руководствуясь исключительно нюхом саморощенного творца, тщательно перемешивал то, чем удавалось разжиться, – мездровый клей и растёртый в муку мел, добываемый отовсюду, где он только мог быть выпрошен или утащен, или же соединял, также на ощупь, глицерин с олифой, после чего добавлял туда желатин и цинковые белила, если подворачивалась оказия достать немного такого редкого богатства. Однако не понимал, не чувствовал поначалу, что добиваться следует не любого, а лишь нейтрально-серого звучания, – строгого, чтобы лучше видны были оттенки светлых тонов. Их он, кстати, любил много больше остальных, и потому работы его, из тех, что писались маслом, в большинстве своём тоже были ясными и радостными, словно излучали такую же светлую надежду, какой и сам он жил в те прекрасные годы в Спас-Лугорье, когда начинал открывать для себя этот неописуемо дивный мир красок, образов и откровений.
Открывать было что. Летом Адик просто исчезал, совсем, – уматывал на природу, один, прихватив всё, что было нужно для пейзажа: самодельный подрамник, уже готовый к работе, с натянутым на него то хуже, то лучше очередным суррогатным холстом, кисти, – бывало, что и самые настоящие, время от времени добываемые отцом через свои часовщицкие знакомства, – треногу, самим же сколоченную, заменяющую этюдник, на которой шатко-валко крепился подрамник. Ну и остальное всё, включая банки, водичку, ветошь или тряпочки разной мягкости для оттирки кистей. А ещё не забывал очки, далёкие и близкие, в зависимости от нужды применения, такими уж непростыми были у него глаза. Жить в известной степени это мешало, но до настоящей беды всё же не доводило. Места он предпочитал таёжные, подальше от дома, но именно они и насыщали его глаза цветом, начинаясь от самого посёлка и протянувшись к югу. На севере же поселок окаймляла болотистая пойма реки. Однако и это было для Адика немалым подарком, поскольку болота эти, если внимательно всмотреться в тусклый блеск их матовой серебрянки, особенно перед самым закатом, местами сказочно пузырились, будто неведомая подводная сила, живущая в их густой, вязкой глубине, выталкивала на поверхность болотной воды свои редкие и мелковатые выдохи. Там ещё росли камыши, осока и узловатые тростники, самые разные, тонкие и толстые, серо-зелёные и седых оттенков. И получалось чудо, если удавалось схватить это разом, в красках и композиционно, чуть изменяя цвета: от едва заметных глазом бледноватых тонов, меняющихся в зависимости от источаемого небом света, до самых напитанных, спелых, наполняющих болото сильным устойчивым колером, разнесённым вширь и вглубь от мелкого кустарника и медленно истаивающего к самому краю разлива. Там уже зыбкие почвы заканчивались почти совсем, и завязывалось скудное, почти однотонное мелколесье.
Ну а зимой особенно далеко не стоило и выбираться, достаточно было поставить треногу у окна и через морозный узор на стекле в очередной раз выделить взглядом натоптанную тропинку, что ведёт к колодцу, и на ней – бабу с вёдрами, ту, что поинтересней, покривей, понерасторопней. С неё он вполне уже мог сделать карандашный набросок, успевая схватить главные черты: как гнётся она под тяжестью полных вёдер, как трёт рукавицей под носом, остановившись передохнуть, как морщит лоб и губы от холодного ветра и как мимоходом растирает себе красные щёки, выпуская пар изо рта. А если выпадали дни по-настоящему солнечные, яркие, блестящие, то уходил ближе к полю, втыкал треногу в снег и, стараясь делать это быстро, как настоящий умелец, писал белое по белому, чуть играя при этом тонами, чтобы получалось, как видится, но ещё лучше, придуманней, с добавкой фантазии неизвестной самому ему природы. Просто так он чувствовал, понимая, что даже сейчас, когда и рука не набита, как надо, и мастерством невысокого даже уровня похвастать нет у него права, всё равно не следует достигать в пейзаже абсолютного сходства с оригиналом; не в этом, казалось ему, таится истинная красота, не в той похожести, что делает изображение и ландшафт неотличимыми один от другого, а, скорей, в самой игре света и тени, в этом дивном цветовом пятне, в моментальном взгляде, ударе, в самой фактуре грифеля или мазка, в почти случайном совпадении настроения, чувства и образа, пойманных кистью художника в силу лишь им одним изведанного чувства гармонии, пропущенного через сердце и глаза, через слёзы и собственную кожу – в экспрессии, в таинстве души.
Смотрят – все, видит – художник. Он понял такое не сразу, поначалу действовал по наитию, просто не сопротивляясь внутренним толчкам, исходившим из его незрелых, ещё совсем пацанских представлений о правильности и единственности собственного мазка. Его больше вело чутьё, интуиция, некий зов, что он беспрестанно улавливал в себе и чему следовал, не делая попыток противопоставить им «школу», классику художественного письма, о которых, честно говоря, больше догадывался, нежели знал нечто определённое.
Анализ того, что остаётся на бумаге, картоне или на холсте, пришёл уже потом, гораздо поздней, почти перед самым поступлением Адольфа Цинка в институт, когда война только-только началась, и он, вместо того чтобы ужаснуться вместе со всеми в ожидании неясных бед, стал думать о том, что и как он видит, и почему так, а не иначе. Именно таким было его настроение летом сорок первого, и ни о чём другом, кроме как о планах поступления в художественное училище, думать не хотелось.
Вышло, однако, совсем не так, как мыслилось. С начала войны в Томске осталось лишь несколько вузов, продолживших работу, да и те начали резко формировать учебные программы, перекраивая их под нужды обороны. Остальные институты просто перестали функционировать. Выбирать не приходилось, надо было действовать, отдавая долг стране, – ему успело щелкнуть восемнадцать. Однако сам Адик был непризывной по зрению, отец – по возрасту, так что семья, получалось, оставалась должна Большому кормчему за неучастие в деле обороны от врага.
Он поступил в Индустриальный, даже не слишком вникая в суть. Сказали, надо идти на маркшейдера: геология, геодезия, топография, всё такое, без чего невозможна добыча кровно потребных стране ископаемых: медь, железо, цветные металлы, полиметаллические руды, откуда, кстати, извлекают цинк, – в курсе, абитуриент Цинк?
Он успел. Поступал бы на другой год, вряд ли вообще бы прошёл, и никакие баллы не помогли бы. В августе того же сорок первого, как только вышло Постановление то чёртово, резко изменилось отношение к этническим немцам, коснулось это и поступающей молодёжи. Впрямую не говорили, просто откровенно валили, не допускали до высшего образования, осуществляя негласную партийную установку. К тому же и разбираться было не рекомендовано, из новых переселенцев абитуриент или это свой немец, местный, из исконно прижившихся на сибирских землях.
Впрочем, Адольфа уже не коснулось, проскочил. И начал учиться как бешеный, пытаясь доказать свою нужность и преданность Родине вопреки любым идиотским слухам, гуляющим тут и там. В тот год все концы и начала в сознании его ещё окончательно не срослись. Не хватало запала докапываться, отчего всё так заворачивается против русских немцев: сибиряков, поволжцев, крымчан, да и всех остальных, чем провинились они перед своим могучим и щедрым Отечеством, что их, словно скот, вывозят целыми семьями на новые места обитания и погибели. Да и учёба, правду сказать, отвлекала, не давала собраться с мыслями, чтобы неспешно переварить внутри себя всё это путаное, мутное, неуклонно обрастающее раздражительной коростой. О том, чтобы выбраться на природу с этюдником, даже речи теперь не шло. Тем более что через год возникла она, Верочка с горнорудного факультета, будущий электромеханик наземных горных работ.
Их быстротечный общежитский роман, так и не успев перерасти в брак, закончился её беременностью. Само собой, со временем они собирались оформить отношения – когда закончится эта проклятая война и можно будет жить дальше, не думая о завтрашнем дне. В разговорах о совместном будущем она успела честно признаться, что по понятным причинам, когда наступит срок, хотела бы избежать смены девичьей фамилии, оставив её за собой. Он не возражал, внутренне понимая и принимая её резоны, но всё же нечто неудобное, неловкое, поселившееся в нём и с занудным упорством точившее чем-то тупым его серёдку, уже тогда не давало душе его спокойно поместить себя в загодя уготовленную нишу и разложить собственное будущее по понятным деталям. Однако, в любом случае, такое его согласие не пригодилось, просто не дошло до этого. Адик успел лишь единожды свозить Верочку в Спас-Лугорье, показать отцу, накоротко продемонстрировать ей места своего детства и вытащить из чулана свои картины. До появления на свет их первенца оставалось чуть больше двух месяцев.
Она умерла во время родов, Вера. Девочку, чудо какую хорошенькую, беловолосую, с аккуратным, чуть вытянутым и скульптурно вылепленным личиком, будто образом своим сошедшую с православной иконы немецкого письма, спасли. Мать же – не смогли. Случай был тяжёлым, и не потому, что провальной в этом деле оказалась оперативная медицина. Просто раннее диагностирование довольно серьёзной наследственной болезни в условиях военного тыла никто не проводил. Потом, не пряча от него глаз, сказали, что это редкое сочетание пролабирования обеих створок митрального клапана с чрезмерно выраженной митральной регургитацией – как-то так или почти так. И это патология, добавили, довольно редкая и плохо поддающаяся лечению в критической стадии. Разобрались, но не тогда, когда было нужно умирающей на столе роженице.
Он поверил, потому что они глядели ему в глаза; он же, как художник, почти всегда умел по выражению лиц отличить, когда ему откровенно врут, а когда говорят искренне, с болью во взгляде. Тем более что скончавшаяся пациентка не была Цинк, и потому не было добавочной причины кривить душой, если бы у кого такая охота возникла. Она носила русскую фамилию своего русского отца-фронтовика, и врачи эти сокрушались о её смерти самым непритворным образом.