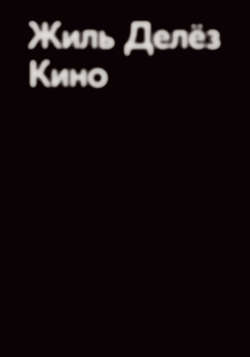Читать книгу Кино - Жиль Делёз - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Кино 1
Образ-движениe
Глава VI
Образ-переживание: лицо и крупный план
2
ОглавлениеФильм Пабста «Лулу» показывает, куда мы приходим, двигаясь от одного полюса к другому в относительно коротком эпизоде: сначала мы видим два лица, Джека и Лулу, ненапряженные, улыбчивые, мечтательные, wonderingly[145]; затем – лицо Джека видит нож через плечо Лулу и начинает выражать непрерывно возрастающий страх («the fear becomes a paroxysm…his pupils grow wider and wider…the man gasps in terror…» – страх превращается в пароксизм… зрачки его становятся все шире… в ужасе он задыхается; наконец лицо Джека расслабляется, он смиряется с судьбой и теперь задумывается о том, что смерть – общее качество для его маски убийцы, для доступности жертвы и неодолимого зова орудия преступления: «the knife blade gleams…» – сверкает острие ножа[146]…
Разумеется, у разных режиссеров преобладает то один, то другой полюс, но это всегда происходит гораздо сложнее, чем можно предположить поначалу. У Эйзенштейна есть знаменитая работа: «Начал чайник…» (Вы узнаете, – пишет мастер, – фразу из Диккенса[147], но еще и крупный план из Гриффита: чайник смотрит на нас)[148]. В этом тексте Эйзенштейн анализирует отличие самого себя от Гриффита с точки зрения крупного плана или образа-переживания. Он говорит, что крупный план у Гриффита является лишь субъективным, то есть касается условий, при которых зритель смотрит фильм, оставаясь от него отъединенным, и играет лишь ассоциативную или предвосхищающую роль. У самого же Эйзенштейна крупные планы являются «слитными», объективными и диалектичными, ибо они производят новое качество и оперируют качественным скачком. Здесь наглядно прослеживается противопоставление мыслящего и напряженного лица – Гриффит предпочитал первое, а Эйзенштейн – второе. И все же анализ Эйзенштейна слишком поверхностный или, скорее, неполный. Ибо у него самого также есть контурированные, но напряженно мыслящие лица: царица Анастасия в момент предчувствия смерти; Александр Невский, герой прежде всего мыслящий. Да и у Гриффита уже встречаются интенсивные серии: и на одном лице, когда всеобщее оцепенение или испуг порождают горе и страх, обретающие разнообразные черты («Сердца мира», «Сломанные побеги»); и даже на нескольких лицах, когда бойцы, показанные крупным планом, как бы отбивают такт сражения («Рождение нации»).
Правда, эти разные лица в фильмах Гриффита сменяют друг друга не сразу; их крупные планы чередуются с множественными сообразно дорогой сердцу Гриффита бинарной структуре (публичное – частное, коллективное – индивидуальное)[149]. Новаторство Эйзенштейна в указанном отношении состояло не в изобретении напряженного лица, равно как и не в создании интенсивных серий с несколькими лицами, нескольких крупных планов. Оно заключается в том, что он создавал компактные и непрерывные интенсивные серии, выходящие за рамки каких бы то ни было бинарных структур и преодолевающие противопоставление коллектива индивидуальному. Эти серии, скорее, достигают новой реальности, которую можно назвать «дивидуальным»; последнее непосредственно соединяет гигантскую коллективную рефлексию с частными переживаниями каждого индивида, в чем, в конечном счете, выражается единство возможности и качества.
Представляется, что каждый режиссер всегда отдает предпочтение одному из полюсов: лицу размышляющему либо лицу напряженному, но при этом не утрачивает средств для достижения другого полюса. В этой связи нам хотелось бы рассмотреть другую пару режиссеров: экспрессиониста и сторонника лирической абстракции. Разумеется, экспрессионизм возвышается до абстракции не меньше, чем лиризм. Но делают они это разными путями. Экспрессионизм по сути представляет собой интенсивное взаимодействие света с непрозрачностью, с тьмой. Смесь света и тьмы – нечто вроде силы, способствующей падению людей в черную дыру или их вознесению к свету. Эта смесь образует серию, иногда в форме чередования темных и светлых полос, а порою – в компактной форме восхождения и нисхождения всех степеней затененности, которые можно считать цветом. Экспрессионистское лицо концентрирует интенсивную серию в том или ином аспекте, колеблющем его контуры; интенсивная серия одерживает верх над чертами лица. Тем самым лицо становится сопричастным неорганической жизни вещей – таков первый полюс экспрессионизма. Лицо делается полосатым, линованным, показывается сквозь сеть с более или менее узкими ячейками, отражает жалюзи, отблески огня, листвы или солнца сквозь деревья. Лицо, подернутое дымкой, чем-то вроде облаков, лицо туманное, обернутое более или менее густой вуалью… Сумрачная и изборожденная морщинами голова Аттилы в «Нибелунгах» Ланга. Однако же при максимальной концентрации или же у крайнего предела серии бывает, что лицо показывается как бы в неделимом свете или становится белым, как при неколебимой рефлексии Кримхильды. Оно обретает четкие контуры и переходит к другому полюсу: к жизни духа или же к духовной непсихологической жизни. Объединяются красноватые отблески, сопровождавшие всю серию степеней затененности, они образуют нимб вокруг лица, ставшего фосфоресцирующим, искрящимся, сияющим; из света возникает существо. Сверкание выходит из теней, мы переходим от интенсификации к рефлексии. Правда, эта операция может быть и дьявольской, когда показывают бесконечно меланхоличного демона, отражающего тьму в пламенном круге или же сжигающего неорганическую жизнь вещей (демон из «Голема» Вегенера или из «Фауста» Мурнау). Но это может быть и божественной операцией, когда дух отражается в себе в виде Гретхен, спасенной божественной жертвой; в виде вечно горящей эктоплазмы или фотограммы, уступающей место лучезарной духовной жизни (опять же у Мурнау – Эллен из «Носферату» или даже Индре из «Восхода солнца»).
Лирическая абстракция у Штернберга осуществляется совершенно по-иному. Штернберг не в меньшей степени гетеанец, нежели экспрессионисты, но это совершенно иной аспект Гете. Это иной аспект теории красок: свет сочетается уже не с тьмой, а с прозрачным, просвечивающим или белым. Книга, названная во французском переводе «Воспоминания показывающего тени» (Souvenirs d’un montreur d’ombres), в оригинале называется «Веселье в китайской прачечной». Все происходит в промежутке между светом и белизной. Гению Штернберга удалось реализовать великолепную формулу Гете: «Между прозрачностью и белой непрозрачностью существует бесконечное число степеней замутненности <…> Белым можно назвать по случайности непрозрачный проблеск чистой прозрачности»[150]. Ибо для Штернберга белое – в первую очередь то, что окружает пространство, соответствующее светозарности. И в это пространство вписывается лицо – крупный план, отражающее свет. Следовательно, Штернберг исходит из рефлексивного или квалитативного лица. Так, в «Красной императрице» мы вначале видим белое лицо девушки в состоянии wonder, и оно вписывает свой контур в узкое пространство, которое ограничено белой стеной и которое девушка замыкает белой же дверью. Но потом, когда рождается ребенок, лицо молодой женщины «схвачено» между белизной тюлевых занавесок и белизной подушки и простыней, на которых она возлежит, что создает изумительный образ, кажущийся продуктом кинотехники, когда лицо выглядит как некий геометрический узор на занавеске. Дело здесь в том, что белое пространство, в свою очередь, является вписанным, удвоенным, на него наложена вуаль или сетка, придающая ему объем или же то, что в океанографии (но также и в живописи) называют мелкой глубиной. Штернберг хорошо разбирался в тканях и кружевах: он извлекает из них все возможности показа белого на белом, когда лицо отражает свет внутри этой белизны. Клод Оллье проанализировал эту абстрактную редукцию пространства, это искусственное сжатие места действия, обусловливающее размеры оперативного поля и методом исключения целой вселенной приводящее нас к чистому женскому лицу (на материале «Саги об Анатахане»)[151]. Лицо производит впечатление рыбы, находящейся между белизной вуали и белизной фона; оно может утратить контуры и стать расплывчатым, «шевелящимся», но рефлективной силы при этом не потеряет. Мы добрались до атмосферы аквариума, характерной для фильмов Борзеджа, другого приверженца такой лирической абстракции. Следовательно, сети и вуали Штернберга существенно отличаются от экспрессионистских сетей и вуалей, от расплывчатости и светотени, свойственных экспрессионистам.
Уж е не борьба света и тьмы, а взаимодействие света с белизной – таков антиэкспрессионизм Штернберга. Из этого не нужно делать вывод, будто Штернберг придерживается исключительно качеств и их отражающего аспекта, игнорируя возможности или интенсивности. Оллье превосходно показывает, что по мере увеличения замкнутости и тесноты белого пространства оно становится все более непрочным и открытым в сторону внешних виртуальностей. Как сказано в фильме «Шанхайский жест», «в любой момент может случиться что угодно». Возможно все… Нож разрезает сетку, ржавая железка продырявливает вуаль, кинжал пронзает бумажную перегородку. Сквозь замкнутый мир проходят интенсивные серии в виде проницающих его лучей, предметов и людей. Аффект достигается благодаря следующим двум элементам: неколебимой качественности белого пространства и интенсивной потенциализации того, что в нем произойдет.
Разумеется, нельзя сказать, что Штернберг не обращает внимания на тени и их градацию до самого густого мрака. Дело в том, что он берет в качестве отправной точки другой полюс: чистое отражение. Начиная с «Доков Нью-Йорка», он изображает дымы в виде белых непрозрачностей, а тени – всего лишь их порождения: выходит, что у Штернберга идея того, что ему необходимо, возникла очень рано. А впоследствии, даже в «Макао», где вуали, сетки и к тому же китайцы отошли в тень, пространство остается обусловленным двумя белыми костюмами двух главных героев и распределенным между ними. И объясняется это тем, что сама по себе тьма для Штернберга не существует: она просто обозначает место, где останавливается свет. Что же касается тени, то это не смесь, а попросту результат, следствие, которое невозможно отделить от его предпосылок. Каковы же эти предпосылки? Это только что определенное нами прозрачное, просвечивающее или белое пространство. Такое пространство сохраняет способность отражать свет, однако приобретает и иную способность: преломлять его, отклоняя проходящие лучи. Следовательно, лицо, находящееся в этом пространстве, отражает одну часть проходящего света, а другую его часть – преломляет. Из рефлексивного оно становится интенсивным. В истории крупного плана это уникальное явление. Классический крупный план обеспечивает показ частичной рефлексии в той мере, в какой лицо смотрит в ином по отношению к камере направлении, тем самым вынуждая зрителя «отскакивать» от поверхности экрана. Кроме того, известны прекраснейшие системы «взгляд-камера» наподобие фигурирующей в фильме Бергмана «Лето с Моникой», они показывают тотальную рефлексию, придавая крупному плану свойственную ему отдаленность. И все же судя по всему, Штернберг был единственным режиссером, дополнившим частичную рефлексию рефракцией при помощи просвечивающей или белой среды, которую он умело создавал. Пруст писал о белых занавесях, «взаимоналожение которых лишь ярче преломляет пересекающий их луч, попадающий к ним в плен». В то время, как лучи света показывают пространственную девиацию, лицо, то есть образ-переживание, претерпевает перемещения и рельефные выделения в области мелкой глубины, а также затенения по краям, и входит в интенсивную серию, сообразно которой оно скользит по направлению к темной кромке или же, наоборот, кромка скользит в сторону освещенного лица. В крупных планах фильма «Шанхайский экспресс» показана превосходная серия «краевых» вариаций. С точки зрения предыстории цвета это явление можно считать противоположностью экспрессионизма: вместо света, исходящего из различных градаций тени путем аккумуляции красного и высвобождения сияния, мы имеем свет, создающий различные градации синеватой тени и помещающий сияние в тень (таковы в фильме «Шанхайский жест» тени, падающие на лицо в область глаз)[152]. Возможно, Штернберг и достигает эффектов, аналогичных экспрессионистским, как, например, в «Голубом ангеле», но делается это посредством симуляции и совершенно иными средствами; ведь рефракция гораздо ближе к импрессионизму, где тень всегда является лишь следствием. Это не столько пародия на экспрессионизм, сколько соперничество с ним, то есть производство тех же самых эффектов с помощью противоположных принципов.
145
Буквально: удивляющиеся (англ.). – Прим. пер.
146
Ср.: Pabst, «Pandora’s Box», Classic Film Scripts. Lorrimer, p. 133–135.
147
«Начал чайник!» – первая фраза повести «Сверчок за очагом». – Прим. ред.
148
Eisenstein. «Film Form», p. 195 sq.
149
Fieschi Jacques, «Griffith le précurseur», Cinématographe, no. 24, février 1977, p. 10 (этот журнал посвятил два своих номера, 24 и 25, крупному плану; исследования о Гриффите, Эйзенштейне, Штернберге и Бергмане).
150
Goethe, «Théorie des couleurs». Ed. Triades, § 495.
151
Ollier Claude, «Souvenirs écran». Cahiers du cinéma-Gallimard, p. 274–275.
152
Ср.: Sternberg, «Souvenirs d’un montreur des ombres», ch. XII, где Штернберг излагает собственную теорию света. В «Cahiers du cinéma» (no. 63, octobre 1956) более полный вариант этого текста опубликован под гетевским заголовком «Больше света!» (Plus de lumiére).