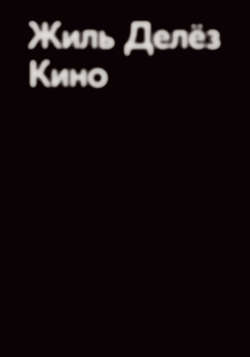Читать книгу Кино - Жиль Делёз - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Кино 1
Образ-движениe
Глава I
Тезисы о движении
(первый комментарий к Бергсону)
2
ОглавлениеЧто же касается «Творческой эволюции», то в ней представлен именно второй тезис, который уже не сводит все к одной и той же иллюзии о движении, а различает по меньшей мере две несходные между собой иллюзии. Заблуждение всегда в том, что движение восстанавливают через мгновения или положения, но делают это двумя способами, древним и современным. С точки зрения древних, движение отсылает к интеллигибельным элементам, к Формам или Идеям, что сами по себе являются вечными и неподвижными. Само собой разумеется, чтобы восстановить движение, мы схватываем эти формы с точностью до их актуализации в материи как потоке. Это потенциальности, которые переходят в актуальное не иначе, как воплощаясь в материи. Но с другой стороны, движение только и делает, что выражает некую «диалектику» форм, идеальный синтез, наделяющий его мерой и порядком. Значит, понятое таким образом движение является упорядоченным переходом от одной формы к другой, то есть порядком поз или привилегированных моментов, как в танце. «Считается», что формы и идеи «характеризуют период, чью квинтэссенцию они выражают, тогда как остаток этого периода заполняется переходом от одной формы к другой и сам по себе лишен всякого интереса… Мы замечаем конечный предел или кульминационный пункт (télos, akmé – греч. «цель, высшая точка» – прим. пер.) и строим из него существенный момент, и этого момент а, сохраненного в языке (langage) ради выражения факта как целого, бывает достаточно также и для науки, чтобы такой факт охарактеризовать[2].
Современная научная революция состояла в соотнесении движения уже не с привилегированными моментами, а с каким-угодно-мгновением. Даже когда требовалось восстановить движение, его восстанавливали уже исходя не из формальных трансцендентных элементов (поз), а из имманентных материальных элементов (срезов). Вместо того, чтобы проводить интеллигибельный синтез движения, осуществляли его чувственный анализ. Именно так, определяя отношение между орбитой и временем, необходимым для того, чтобы пройти ее, сформировалась современная астрономия (Кеплер); из соотнесения пространства, пройденного за время падения тела, – современная физика (Галилей); из выведения уравнения плоской кривой, то есть из определения положения точки на подвижной прямой в любой момент построения последней – современная геометрия (Декарт); наконец, появилось дифференциальное исчисление, и с этих пор ученые догадались, что срезы следует считать бесконечно сближаемыми (Ньютон и Лейбниц). И повсюду механическая последовательность каких-угодно-мгновений заменила диалектический порядок поз: «Современная наука должна главным образом определяться своим стремлением принимать время за независимую переменную»[3].
Кинематограф, в сущности, представляется последним ребенком из выявленного Бергсоном потомства. Если взять серию средств передвижения (поезд, автомобиль, самолет и т. д.) и серию средств выражения (графика, фотография, кино), то кинокамера предстанет как посредничающее устройство или даже, скорее, как обобщенный эквивалент средств передвижения. Именно так она предстает в фильмах Вендерса. Когда мы задаемся вопросом о предыстории кино, мы порою принимаемся городить турусы на колесах, так как не знаем ни временных границ, ни технологической родословной предмета исследования. И тогда мы в любом случае вольны ссылаться на китайские тени либо на наиболее архаические системы проекции изображений. Однако на самом деле определяющими условиями для кино являются следующие: не просто фото, а именно моментальное фото (фотографирование поз принадлежит к другой линии родословной); равноудаленность друг от друга моментальных кадров; перенос этой равноудаленности на материальную опору, которая и образует «фильм» (пленку отперфорировали Эдисон и Диксон); механизм для прокрутки изображений (зажимы братьев Люмьер). Как раз в этом смысле кино представляет собой систему, воспроизводящую движение в зависимости от произвольно взятых моментов, то есть от равноудаленных мгновений, подобранных так, чтобы производить впечатление непрерывности. Всякая иная система для воспроизводства движения через некую упорядоченность поз, проецируемых так, чтобы переходить от одних к другим или же «преобразовываться», кинематографу чужда. Это становится ясным, как только мы пытаемся дать определение мультипликационному фильму: если он безраздельно относится к сфере кино, то только потому, что рисунок образует здесь уже не позу и не законченное изображение, а описание изображения, всегда готового возникнуть или же постепенно исчезнуть. И произойдет это благодаря движению линий и точек, взятых в произвольные моменты проходимого ими пути. Итак, мультипликационный фильм отсылает к картезианской, а не к Евклидовой геометрии. Он показывает нам не изображение, начерченное в отдельно взятый момент, а непрерывность движения, вычерчивающего изображение.
Как бы там ни было, похоже, будто кино подпитывается привилегированными мгновениями. Часто говорят, что Эйзенштейн «вытягивал» из движений или процессов кризисные моменты определенного рода, их-то он и превращал в предмет кино par excellence. Утверждают даже, будто бы он эти моменты называл «пафосом»: так, он отбирал драматичные и критические ситуации, доводил сцены прямо-таки до пароксизма и сталкивал их друг с другом. Но это ни в коей мере не может служить возражением на наши тезисы. Вернемся к предыстории кино и к знаменитому примеру с конским галопом: последний поддается точному разложению лишь посредством графической регистрации Марея и равноудаленных моментальных снимков Мьюйбриджа, соотносящих галоп как организованное целое с произвольно взятыми точками. Если мы как следует выберем равноудаленные снимки, мы обязательно остановимся на важных моментах, то есть на мгновениях, когда лошадь ударяет о землю одним копытом, потом – тремя, двумя и снова одним. Такие моменты можно назвать привилегированными, и все же вовсе не они характеризовали галоп в смысле поз или обобщенных положений тела на древних изображениях. У таких мгновений уже нет ничего общего с позами, и как позы они были бы даже формально невозможны. Если это и привилегированные мгновения, то в смысле примечательных или сингулярных точек, относящихся к движению, а не играющих роль моментов актуализации какой-либо трансцендентной формы. Понятие привилегированных моментов полностью поменяло свой смысл. Привилегированные мгновения у Эйзенштейна или любого другого режиссера – это опять же какие угодно моменты; любой момент попросту может быть обычным или уникальным, заурядным или примечательным. То, что Эйзенштейн подбирает примечательные моменты, не мешает ему извлекать их при помощи имманентного анализа движения, а вовсе не трансцендентного синтеза. Примечательный или уникальный момент так и остается произвольно взятым из среды остальных моментов. Вот в чем различие между современной диалектикой, приверженцем которой объявляет себя Эйзенштейн, и диалектикой древней. Последняя представляет собой порядок трансцендентных форм, актуализующихся в движении, тогда как первая заключается в производстве и сопоставлении между собой сингулярных точек, имманентных движению. Итак, это производство сингулярностей (качественный скачок) осуществляется путем накопления обычного (количественный процесс), и выходит, что сингулярное берется из произвольного, им может быть что угодно, лишь бы оно было попросту необычным или же незаурядным. Сам Эйзенштейн ясно указал, что «пафос» предполагает «органичность» как организованную совокупность произвольно взятых моментов, где должны пройти разрывы[4].
«Какое угодно» мгновение есть мгновение, равноудаленное от любого другого. Следовательно, мы определяем кино как систему, воспроизводящую движение и соотносящую его с произвольно взятыми моментами. Но тут-то мы и сталкиваемся с трудностями. Например, какой интерес в такой системе? С научной точки зрения – не ахти какой. Ведь научная революция состояла в анализе. И если оказывалось необходимым соотносить движение с произвольно взятыми моментами с целью проведения его анализа, то трудно было понять, в чем же выгода синтеза или реконструкции движения, основанной на принципе синтеза. Да, с их помощью можно подтверждать аналитические данные, но это задача не из первостепенных. Вот почему ни Марей, ни братья Люмьер не обольщались изобретением кинематографа. А представляло ли оно хотя бы художественный интерес? Казалось, будто тоже никакого, ведь искусство, на первый взгляд, отстаивает права на более возвышенный синтез движения и остается приверженным позам и формам, которые отвергла наука. Так мы добрались до самой сути двусмысленного положения кино как «индустриального искусства»: кинематограф не был ни искусством, ни наукой.
Между тем современники первых киносеансов порою не оставались в стороне от проделанной искусствами эволюции, которая изменила статус движения везде, даже в живописи. С тем бóльшим основанием от фигур и поз отказались танец, балет и пантомима; они обрели не связанные с позами, неимпульсные значимости, соотносившие движение с произвольно взятыми моментами. Тем самым танец, балет и пантомима превратились в действия, способные реагировать на особенности окружающей среды, то есть на разграничение точек какого-либо пространства или моментов какого-либо события. Все это оказало влияние на кинематограф. С той поры, как в кино пришел звук, стало возможным преобразование музыкальной комедии в один из великих жанров, когда «танец-действие» Фреда Астера развертывается где угодно – на мостовой среди машин, на тротуаре[5]… Но уже в немом кино Чаплин преобразил пантомиму, превратив ее из искусства поз в искусство-действие. Тем же, кто ставил в упрек Чарли то, что он воспользовался кинематографом, а не послужил ему, Митри ответил, что кино предложило пантомиме новый образец, функцию пространства и времени, непрерывность, созидаемую каждое мгновение, которую теперь можно разлагать только на примечательные имманентные элементы, вместо того чтобы соотносить с формами, заранее избранными для воплощения[6].
То, что кино полностью соответствует этой современной концепции движения, выразительно продемонстрировал Бергсон. Но хотя в этом и заключалась его отправная точка, он, по-видимому, колебался между двумя путями, один из которых возвращал его к его первому тезису, но зато второй приводил к новым вопросам. Если идти по первому пути, то несмотря на то, что две концепции совершенно несходны между собой с точки зрения науки, результаты их почти идентичны. Фактически к тому же самому сводится восстановление движения с помощью «вечных поз» или же неподвижных срезов: в обоих случаях мы как бы промахиваемся мимо движения, ибо задаем себе некое целое, предполагаем, будто это целое «дано», тогда как движение происходит лишь тогда, когда целое не дано и не задаваемо. Как только мы задаем себе целое в вечном порядке форм и поз либо в совокупности каких-угодно-мгновений, время становится образом вечности или же следствием выбранной совокупности: реальному движению места больше нет[7]. И все же кажется, будто перед Бергсоном открывался второй путь. Ибо если древняя концепция движения коренится в античной философии, которая ставит себе задачей мыслить вечное, то современной концепции движения, современной науке требуется иная философия. Когда мы соотносим движение с произвольно взятыми моментами, мы обязаны обрести способность мыслить о создании нового, то есть примечательного и незаурядного, в любой момент. Таково тотальное преобразование философии, и в конце концов именно эту задачу поставил перед собой Бергсон – наделить современную науку метафизикой, которая ей соответствует, но которой ей недостает, как одной половине – другой половины[8]. Но можно ли на этом пути остановиться? Можно ли отрицать, что искусство тоже должно подвергнуться такому преобразованию? Или утверждать, что кино не является существенным в этом отношении фактором, и даже то, что ему не предстоит сыграть определенную роль в рождении и формировании этой новой мысли, нового образа мышления? И вот Бергсона уже не удовлетворяет подтверждение его тезиса о движении. И хотя его второй тезис «остановился на полпути», он способствовал возникновению другой точки зрения на кино, которое теперь стало уже не усовершенствованным устройством по производству древнейшей иллюзии, а, напротив, органом совершенствования новой реальности.
2
ЕС, р. 774 (330). Рус. пер., с. 314.
3
ЕС, р. 779 (335). Рус. пер., с. 319.
4
Об органическом и патетическом, ср.: Эйзенштейн. Неравнодушная природа, в: Избранные произведения, т. 3, с. 44–71. М., «Искусство», 1964.
5
Knight Arthur, Revue du cinéma, no. 10.
6
Mitry Jean, «Histoire du cinéma muet». Ed. Universitaires, p. 49–51.
7
ЕС, р. 794 (353). Рус. пер., с. 332–333.
8
ЕС, р. 786 (343). Рус. пер. с. 326–327.