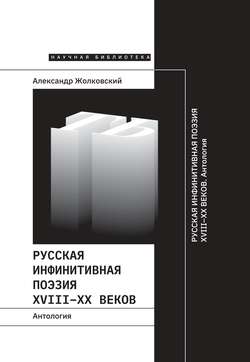Читать книгу Русская инфинитивная поэзия XVIII–XX веков. Антология - Группа авторов - Страница 26
АНТОЛОГИЯ
Нестор Ваcильевич Кукольник (1809–1868)
ОглавлениеК., вообще утрировавший романтические клише, охотно применял ИП, в частности, в драмах. На его «драматическую фантазию в стихах» «Доменикино» (1838) «Новый поэт» (И. И. Панаев) сочинил пародию под названием «Два отрывка из драматической грезы „Доминикино Фети, или Непризнанный гений“» (1847), включив туда инфинитивный монолог c зависимой ИС 1+4+1, мало отличающейся от серьезного ИП (ср. напр., № 35):
Я радугу хотел сорвать с небес; С природою я мыслил состязаться; Пересоздать небесные светила; Луну и солнце с небеc перенесть На полотно. И кистью исполинской Хаос, и тьму, и ад изобразить На диво, страх и трепет человеку!.. Я мыслил сжать в одно произведенье Громадное – все божии миры!.. [Русская пародия, 452]
Ср. в оригинале у Кукольника всего лишь ИФ 1+2: Я кистью молнию хотел поймать И, лучшее творенье сил небесных, Хотел умом украсить человека И ужас навести на человека… [Кукольник 1852, 95]
К. представлял естественную мишень для пародирования; но одна инфинитивная пародия, предположительно адресованная ему, возможно, имела мишенью другого автора – А. Н. Струговщикова (см. об этом с. 126 Антологии).
[Поэты 1820-1830‐х годов]
42. Охлаждение
(писано в декабре 1836)
Чужое счастье втайне видеть,
Чужою радостью страдать,
Любить и вместе ненавидеть,
То прославлять, то проклинать,
Завистливым и злобным взглядом
Искать ее, искать его,
Исполниться мертвящим ядом
В пустыне сердца своего
И, заразив кругом вниманье
Ядоточивой клеветой,
Хранить коварное молчанье
Перед смущенной красотой
И только изредка сурово
В бесстрастный, хладный разговор
Бросать двусмысленное слово
Иль подозрений полный взор;
Смеяться тайными слезами
И плакать смехом; то, дрожа
Недужно, – жаркими руками
Искать отравы иль ножа…
Вот это ревность.
Но, по счастью,
Мне эта страсть давно чужда,
Душа поэта предана
На жертву жадному бесстрастью.
Смотрю на прочную любовь,
Взаимную холодность вижу…
Спокойна опытная кровь:
Я – ни люблю, ни ненавижу.
1836
42. Пять четверостиший из семи – единая, почти абсолютная ИС 14, ретроспективно резюмируемая по традиционной формуле Вот это.… Традиционно ироническое изображение странного – чужого – поведения осовременено размером (Я4жм, с перекрестной рифмовкой во всех строфах, кроме предпоследней, где рифма опоясывающая) и применением к перволичному субъекту, каковой, однако, принимает (в неинфинитивном финале) позу отстранившегося от страстей поэта-наблюдателя (в отличие от Онегина в №№ 27-28). На отстранение работают и курсивные выделения (ревность; ни люблю, ни ненавижу), сигнализирующие о последовательно метаязыковом характере дискурса.
Ср. сходный аналитический взгляд на любовь в ст-ии «Из записок влюбленного» (1837) с ИС 2+1-(1+1)+1+4+3:
Но разлагать , учить – гораздо веселей Одно, отдельное, особенное чувство. Приятно, любопытно наблюдать, Каким путем идет всемирный предрассудок, Как сердце рвется мир несбыточный создать, Как этот мир разбить старается рассудок, <…> Люблю и не люблю встречать твой образ милый, <…> Приятно божье солнце отражать, Быть отблеском вполне прекрасного светила, Сиянием небес блистать и согревать. <…> Э, други, полно! Что за радость Любить и нелюбимым быть? Весну цветов, живую младость Как бремя, как недуг, влачить? (ср. позднейшую разработку темы «нелюбимости» у М. Кузмина, с. 192).