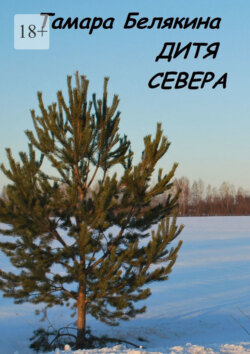Читать книгу Дитя севера - - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Тамара Белякина:
Дитя Севера
У меня в Москве
ОглавлениеУ меня в Москве купола горят,
У меня в Москве колокола звонят.
М. Цветаева
У меня в Москве есть Дом. Даже Дворец! Он – мой, не знаю, есть ли ещё какой человек, которому почти сорок лет снится этот Дом.
Всё очень просто – это Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. Раньше это был институт благородных девиц.
Мне очень нравится его архитектура. Ничего лучшего мне не пришлось увидеть. Описать архитектуру трудно, хотя очень хочется. Юрий Михайлович Лотман описал, как были построены дворянские дома в деревенских имениях и в Петербурге, – их можно представить. Надо и мне попробовать описать мой Дом, хотя я уже многое забыла.
Дом угловой и в плане представляет четверть круга. Студенческий вход – со двора, из скверика, там по «дуге» было несколько дверей, но открыта всегда была одна.
Заходишь – так же дугой по обе стороны распахивается коридор – налево объятья и направо объятья. Но что странно? Потолок-то – наклонный! Пока что ничего непонятно. В низкой части – раздевалка и буфет, а в высокой – большие окна.
Теперь надо описать замысловатую сеть лестниц, их много. Две широкие лестницы в середине дуги ведут в вестибюль, а по двум – в концах дуги – можно подняться в аудитории, о которых речь впереди. Поднимаешься в вестибюль, а он высокий – в три этажа! и потолок – стеклянный! И он тоже полукруглый! И красивый каменный пол! И по радиусам этого сегмента – галереи второго и третьего этажа с красивыми перилами.
Широкая часть квадранта представляет собой три больших амфитеатра – 8, 9 и 10 аудитории. В нескольких фильмах советской поры их можно увидеть.
Ах, как приятно чувствовать себя студенткой, сидючи в этих аудиториях на лекциях! Там тогда, в 60-е, выступали поэты и барды. И в каждой из них стоял рояль! (Теперь вот и понятно, что пол «горки» образует наклон потолка в коридоре.)
Но это ещё не всё. В угловой части вестибюля две округлые лестницы ведут во второй этаж, а между ними проход на «собачью площадку», хотя это маленький круглый зал с колоннами, и на самом деле – главный вход с угла Дома, который открывался только тогда, когда нужно было выносить гробы с покойными профессорами после панихиды, когда всегда исполнялся «Реквием» Моцарта. А «собачьей площадкой» этот зальчик назывался потому, что там, между колонн, всегда курили.
И вот, когда поднимешься на второй и третий этаж, то коридоры по сторонам квадранта одной стороной выходят в этот замечательный вестибюль, а с другой стороны – двери в маленькие аудитории и библиотеку. И библиотека чудесная – высокие стеллажи до потолка, подставляй стремянку, доставай любую книгу и читай на длинных столах под зелёными лампами. А насытишь голову – и выходишь, опираешься о перила, смотришь вниз – в чудесный вестибюль и вверх – в чудесный стеклянный потолок. И куришь. «Стою, курю»…
И маленький круглый зал с колоннами повторяется на каждом этаже в угловой части, На втором этаже в этом зальчике всегда проходили занятия по истории партии.
А вот на третьем этаже был Михал Максимыч. Колченогий старый добрый художник, который получил должность доцента за альбом с рисунками птиц. Он научил меня любить ворон. У него на третьем этаже в угловой части коридора, выходящей всё в тот же вестибюль, была изостудия, где были гипсовые Венера и Давид и куда привели меня девочки после того, как увидели, что я на лекциях рисую затылки ниже сидящих, и по ним можно узнать – чьи они. Это был факультатив, но, к сожалению, я проучилась у М.М. всего два года, ещё бы год, и был бы диплом по художеству. Боже мой, как там было добро, любяще, уютно, тепло. Как мы любили М.М., а он нас. Как не стыдно было своих ошибок и как радостно от удач. Но пришёл конец «сладкой жизни».
Ещё две детали этого Дома: в вестибюле стояли две огромные статуи – Ленина и Сталина. Потом Сталина убрали, остался один Ленин.
И была ещё одна лестница – винтовая, а под одним из её изгибов образовалась крошечная треугольная комнатка, где помещалось только пианино и стул. Вот тут-то и проходила в основном моя жизнь.
Все на лекциях, а я брала ключ, запиралась и играла. Я тогда ещё была с открытой раной. Кто имел такие раны – понимает. Кто не имел их, но имеет воображение – может представить. А я бередить не хочу. Очень легко разбередить, и снова будет больно. Это касается только меня и музыки.
Так почему же всё-таки я считаю этот дом своим Домом?
И вот он время от времени снится мне, и я хочу вернуться туда и боюсь: там всё чужое – люди, вещи, стены. И нас никто не помнит – мы чужие. И вот когда горчайшее приходит. И что мне делать?
Окно открыто. Смотрю на ветки берёзы. Они растут вниз. И качаются потихоньку. Похожи на лёгкие волосы или негустой водопад. Сравненье не из новеньких. Но мне что за дело! Для меня нет проблемы – искать неистасканные эпитеты, я – не писатель, «не Спиноза какой-нибудь – ногами кренделя выделывать». Проблема будет у того, кто будет читать это. Да и то, зачем ему это читать? Скучно станет – бросит. Речь о том, что есть такой стиль жизни – быть свидетелем жизни, своей и других. Соглядатаем, смотрителем, слушателем. Быть со-причастным, со-чувствующим, со-переживающим. Всматривающимся, вслушивающимся и пытающимся понять. Не умом даже, скорее – интуицией, мелодией – тоже не своей и не новой, какой-нибудь всплывшей в памяти чужой строчкой.
Достоевский писал о таком переживании жизни и таких людей называл «созерцателями». А я бы сказала ещё – «читателями» жизни. Смотрит – и прочитывает то, что видит.
Наверное, я такая. Мне скучно быть «действующим лицом». Когда приходит нужда действовать, я сразу перестаю понимать. Мне скучно куда-то мчаться, крутиться в водовороте. А лучше идти потихоньку и знать про себя, что обязательно дойдёшь.
Воды. Броды. Реки. Годы и века.
Обязательно найдутся такие, что скажут: «О-о! Это холодный бесчувственный человек!» Но когда видишь, слышишь и понимаешь – невозможно не сопереживать. И мучиться от невозможности что-либо изменить. Просто как – сопереживать и мучиться!
Я не думаю, что люди очень сильно отличаются один от другого – руки, ноги, голова. У всех 46 хромосом. У всех один набор психологических комплексов. Разница только в акцентуации. И когда поймёшь, что генетика сильнее всего и из огуречного семечка не вырастишь розы, то остаётся только сопереживать и огурцу, и розе. И лучшее, что ты можешь сделать – это выслушивать людей. Нам всем так хочется, чтобы были хотя бы одни уши, согласные нас услышать. Не просто слушать, но и услышать, то есть – понять.
Интересно, хочет ли берёза, чтобы её поняли?
Ну, и теперь про Славку Кириллова. Он был весь такой «густой»: крутые чёрные негритянские завитки на большой голове, густые брови и ресницы, густая, не поддающаяся бритью, вечно лезущая растительность на лице и – главное в нём – густой низкий и громкий бас. Я и услышала его бас на одной из лестниц. Посещение лекций у нас было свободным, и вот я играла в своей каморке, а он рычал, кхмыкал и что-то пел из украинских песен. Я предложила – давай выучим «Сомнение» Глинки. Он не знал ни сомнения, ни Глинки. Он вообще был дико невежествен.
К тому времени ему было уже 26—27 лет. Приехал он откуда-то то ли с Кубани, то ли с Донбасса. Я вспомнила, что мама у него была русской или украинкой, а отец – что-то восточное. Работал в колхозе и на заводе, везде, наверное, был заметен, и кто-то, по-видимому, посоветовал ему получить хотя бы гуманитарное образование.
Так вот, был бас, сочный, красивый, оперный, но не было ни ритма, ни особенного слуха, ни музыкальности. Просто беда. Я по молодости думала, что это разовьётся, но было невероятно трудно заставить его петь хотя бы в лад с аккомпанементом. Орал он на весь холл, но толку не выходило. Ну а я, конечно, и не педагог.
Славка прослушивался где-то и неоднократно, но, видно, никто не взялся за него.
Учёба в институте для него не была важной, так же, как и для меня. И мы как-то быстро поняли друг друга и на многое смотрели одинаково. Я тоже была старше своих однокурсников. И действительно, происходит что-то – он посмотрит на меня, я на него – и понятно без слов, что мы поняли и как мы поняли и что поняли одинаково. Говорили мало, больше молчали, но понимали, о чём молчим. Тут-то и родилось это словечко – «взаимопонимаки» мы с ним. Было общее – то, о чём больно говорить.
А вот видеть и понимать он тоже умел. Когда восхищался чем-нибудь или удивлялся, то задирал голову, мотал ею и, оскаливая зубы, рычал: «О-йй-о!» Был он ленив, учился плохо, на занятиях вроде и слушал, но чувствовалось, что в нём параллельно идёт вторая жизнь, что всё переваривается через его густую натуру и мало остаётся.
Глаза у него были яркие, большие и ленивые. Ноздри вывороченные и какие-то тугие, и красные пухлые губы. Весь он был какой-то раскалённый, как электроплитка с красной спиралью, пышущая жаром. Но непонятно было, что делать с этой плиткой – не варить же на ней супчик или кашу. Да и греться не хотелось – лучше отстраниться от ненужного жара. Он и сам чувствовал свою раскалённость, ему было тяжело от неё, и он не понимал, что ему с этой раскалённостью делать.
Но его не любили девчонки, и он не любил никого. Казалось, что главное для него – понять, зачем он такой. Мы с ним были дружны, он мне мог говорить обо всём.
Даже о том, что у него ещё не было женщины, что он – девственник! И он очень озабоченно жаловался, что ведь нельзя так долго оставаться девственником – можно импотентом стать. Потом он мне рассказывал, что у него появилась женщина по имени Генриетта, что она много старше его, что он её не любит, но надо же жить. Он не пил, не курил и не имел вредных привычек.
Тогда я не знала Томаса Манна, но сейчас мне кажется, что он похож на мингера Пеперкорна из «Волшебной горы». Человек – масштаб. Просто – масштабный человек. Большой, много – но чего?
Ушёл он из института после второго или третьего курса – не помню. Пристроил его кто-то в Калининский драматический театр. Как-то парни – его приятели – поехали к нему в Калинин на спектакль и взяли меня. Долго ждали, когда он появится. И как в дурном романе – появился наконец – спиной к публике в бессловесной роли солдата, в строю с другими. После спектакля сходили на Волгу и уехали последней электричкой. Говорить было нечего. Всё было понятно.