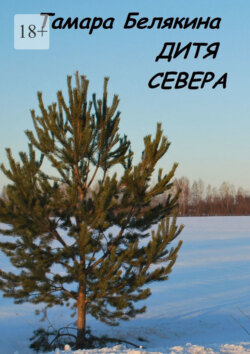Читать книгу Дитя севера - - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Тамара Белякина:
Дитя Севера
Жизнь длиной в пять лет (про Михаила Павловича Еремина)
ОглавлениеСмотрю на ветки берёзы. Они растут вниз. И качаются потихоньку.
Похожи на лёгкие волосы или негустой водопад и на воспоминания.
Сравненье не из новеньких. Но мне что за дело!
Для меня нет проблемы – искать неистасканные эпитеты, я – не писатель, «не Спиноза какой-нибудь – ногами кренделя выделывать».
Проблема будет у того, кто будет читать это. Да и то, зачем ему это читать? Скучно станет – бросит.
Речь о том, что есть такой стиль жизни – быть «свидетелем» жизни – своей – и других… «Соглядателем», «смотрителем», «слушателем».
Быть со-причастным, со-чувствующим, со-переживающим.
Всматривающимся, вслушивающимся и пытающимся ПОНЯТЬ.
Не умом даже, скорее, – интуицией, мелодией – тоже не своей и не новой, какой-нибудь всплывшей в памяти чужой строчкой.
Достоевский писал о таком переживании жизни, и таких людей называл «Созерцателями».
А я бы сказала ещё – «читателями» жизни. Смотрит —и прочитывает то, что видит.
Скучно куда-то мчаться, крутиться в водовороте. А лучше идти потихоньку и знать про себя, что обязательно дойдёшь.
…Воды. Броды. Реки.
Годы и Века.
Обязательно найдутся такие, что скажут: «О-о! Это холодный бесчувственный человек!»
Но когда видишь, слышишь и понимаешь, – невозможно не «сопереживать».
И мучиться от невозможности что-либо изменить.
Просто как – сопереживать и мучиться!
Всё началось с краха. После событий, описанных в «Моей Фантазии-экспромте»,
отправила меня Мама в Москву к дяде Мише. Он преподавал тогда в Библиотечном институте и жил на Левобережной.
Там я в первый раз увидела дубы. И очень они мне понравились.
Запах в дубовом лесу терпкий, крепкий. Листья «виолончельные»! Стволы толстые.
Под дубами всегда лежат желуди – тоже необычные существа.
Однажды я увидела дуб, покрытый потемневшими листьями уже зимой, под снегом! Мне тогда сказали, что и начинает зеленеть он позже всех.
Вспомнился толстовский дуб.
Между дядей Мишей и Мамой разница в возрасте два года, и он был очень похож на Маму. В его лобастой голове всё что-то кипело. Стыдно было помешать этому кипению.
Дядя Миша судьбу имел «своего» времени – раскулаченный Дед, война, институт, кандидатская. Это был очень яркий человек. И очень острый на язык.
К нему приходили его нежнейшие друзья, они пили водочку под хорошую закуску и пели «Воркуту» и другие зэковские песни. Но и слишком многих сослуживцев он открыто называл дураками. За что его побаивались и не любили.
Но зато Дядю Мишу обожали студенты и студентки.
Он читал курс русской литературы, особенно внимателен был к Пушкину и Чехову.
Когда его выжили из библиотечного института, до конца жизни он преподавал в Литературном институте. Мы с девчонками ходили тогда к нему на лекции.
Набивался полный зал со всех курсов, а он – как демиург! – на наших глазах (или ушах?:) создавал какие-то строения из своих знаний, от основания до крыши, не забывая тут же украшать их лит. анекдотами, далёкими ассоциациями, неизвестно откуда известными, – казалось только ему, – стихами. Голова немного кружилась, на перерыв никто никогда не выходил, было наслаждением следить за его прихотливой мыслью, но записывать не было никакой возможности. Расходились оглушённые.
Потом я встречалась с разными бывшими его студентами, и такое счастье было слушать дифирамбы Моему (!) Дяде. Очень долго (да во многом и сейчас) он был для меня нравственным ориентиром, когда я сомневалась в себе, я всегда думала – А что бы на это сказал Дядя Миша?
Мне запомнилось, что когда я поступила на первый курс, он мне сказал, что в каждой группе обязательно есть осведомитель и что надо их сразу же отличать, так же, как сразу видно дураков и проституток. (Меня особенно заинтересовало – как увидеть проститутку, я их никогда не видела).
Мне очень хотелось бы с ним много говорить, но я, после моего фиаско, несмотря на то что была начитанной девочкой, робела его. Обычно мы вместе с ним ехали в электричке из Левобережной, где я жила у него первые полгода, и он уже весь гудел от предстоящей ему лекции, поэтому я скромно глядела в окошко. Прожил он долгую жизнь, изредка я, отягощённая семейной жизнью, писала ему письма. Он каждый раз отвечал мне и всегда сильно подбадривал меня, говоря, что у меня хороший слог.
Жена его —красавица Люба – имела судьбу «своего» происхождения – глубокие дворянские корни, гонор, неудовлетворённость жизнью.
Дети – Павлик и Верочка – воспитывались в лучших традициях советского дворянства.
Они были детьми талантливых родителей, и от них ожидалось талантливое будущее.
Но ах, мне это не хочется вспоминать!
Верочка, знавшая в 13 лет множество стихов, учившаяся в английской престижной школе, окончила Институт тонкой химической технологии, потом изучала математику, философию, древнегреческий язык, мечтала работать в Английском посольстве, а вышла замуж за композитора, оказавшегося шизофреником, в конце концов стала сотрудником в канцелярии и издательстве Митрополита в Троице-Сергиевской Лавре.
А талантливый и любвеобильный в отца Павлик – успешный бизнесмен в области компьютеров.
Там, в Левобережной, был отличный лес! Мы ходили летом купаться в канале, зимой катались на лыжах.
В лесу даже находили грибы, но не менее часто там попадались парочки под кустами из близлежащего библиотечного.
Смотреть под эти кусты тянуло, но тянуло и холодком от страха – там явно было что-то «греховное».
Но настоящий среднерусский лес после якутской тайги был таким тёплым, приветливым, уютным, домашним.
Предполагалось, что я буду поступать в библиотечный институт, но дядя Миша отверг это, и я подала документы в Ленинский. Библиотека у дяди была огромная, но читать мне предписывалось только по программе. А там было даже редчайшее 90-томное собрание сочинений Толстого! А ещё наняли репетитора – старушку – по английскому языку, к которой я украдкой не ходила. Увы, я так и не выучила английский язык, более того, он мне даже не кажется языком, – так, какая-то система знаков.
Месяца через полтора приискали комнатку на Никитских воротах у старушенции, которая сдавала комнаты командированным богатеньким чиновникам из Якутского поспредства и от которых она, видимо, имела больше дохода. Поэтому меня выдворила без всяких причин, что мне было обидно.
И тогда приискали угол у больной старушки на улице, параллельной к Якиманке, забыла её название – напротив Литературного музея. На этой квартире я единственный раз в жизни встретила Новый год совсем одна. Это был 1962 год.
Помню, Папа как-то пошутил – «Иду, вижу знакомую щепочку, – значит, – моя улица!»
Вот и я так же «обживала» Москву.
Полюбила Левобережную с её дубовой рощей у станции, полюбила институт, который стал моим домом, полюбила Никитские Ворота и Арбат, Консерваторию, Цветной бульвар. Я всегда носила с собой свою боль, которой не могла ни с кем поделиться, поэтому я всегда была одна. Вернее, у меня были близкие подруги, но я была всегда
ВНЕ коллектива. Всегда – с детства и до старости.
Студенческая группа наша была хорошей, но ни с кем я не сблизилась.
На лекциях мне часто было скушновато. Ведь лекция – это растиражированное знание, в ней нет открытия.
А мне хотелось, чтобы было как в музыке – вот здесь и вот сейчас – и больше никогда.
И даже то, что казалось импровизацией, как на лекции у Ревякина, было повторяемо каждый год каждому первому курсу.
Бывали у нас бурно проходящие комсомольские собрания, где, как обычно это бывало, к концу каждый кричал своё. Предметов обсуждения было два – 1.критика комсомола и 2.как улучшить работу комсомола.
Я была постарше остальных девочек на два года, потом я была из семьи репрессированного Деда, и Папа сидел, и дядя сидел, и Мама очень презрительно называла красный галстук – «собачья радость», поэтому к комсомолу у меня было полное презрение. И когда наша комс. ячейка стала привлекать меня к общественной деятельности, ну, правда, используя моё некоторое муз. образование, а я из деликатности не смела отказаться, вдруг подвернулась возможность перейти в другую группу, которую надо было укрепить после отчисления после первой сессии пяти студентов.
Я и перешла в другую группу, а она уже за полгода тоже сформировалась, и я в неё тоже не вросла. Так я и оказалась в полном, вполне удовлетворяющем меня одиночестве.
Благо, в институте было много роялей, куда я и сбегала с лекций от всех.
Но мы охотно ходили на лекции Владимира Турбина в МГУ, собиравшего огромные аудитории на лекции по Гоголю, Лермонтову и Достоевскому.
Это была школа литературоведения.
Один из наших институтских лекторов – Геннадий Петрович Пирогов – очень любил возить курс по Подмосковным лит. Музеям. Мне очень нравилось в Абрамцеве, там была чудесно живописная природа, и казалось, что каждое деревце, каждый овражек и пригорок много раз написан маслом или акварелью. А в маленькую церковь вообще входили с благоговением оттого, что она расписана Врубелем!
И ещё мне очень запомнилось Ашукинское – имение сначала Баратынского, а потом Тютчева. Они по какой-то там линии были родственниками. Дом был выстроен по проекту самого Баратынского. Я очень хорошо запомнила внутреннюю архитектуру дома. Там сохранялись подлинные интерьеры, все эти диванчики, столы и кресла, картины, горки с посудой, даже воздух в комнатах был будто тот же, и иногда казалось, что вот из соседней комнаты выйдут хозяева.
Я в те годы много ходила на симфонические концерты – в Консерваторию, в Концертный зал Чайковского, в Колонный зал. Мне казалось, что вот там и было моё настоящее место.
После концертов бывало так, что мне казалось, ноги мои не касаются земли, меня продолжало нести на звуковых волнах.
На последних курсах я стала заниматься у Михал Максимыча в художественной студии.
Рисовали сначала с гипсов – носы и профили с греческих статуй, потом очень нравилось делать быстрые наброски-зарисовки – вставали сами же и позировали, и нужно было набросать мгновенный портрет, интересно было заниматься линогравюрой, вырезать рисунок на линолеуме, а потом печатать. А осенью и весной ездили на этюды всё в то же Подмосковье писать маслом. При всём моём безденежье я купила себе этюдник, кисти и краски.
Нет, надо, чтобы молодость была намного, намного длиннее!
Влюблённостей у меня никаких не было, душа была полна и без них.
Я любила бродить по Москве, и мы много гуляли, смотрели, впитывали её с чтением стихов, с музыкой «в башке». Однажды весенней тёплой ночью прошли почти всё Садовое кольцо. И нам в голову не приходило чего-нибудь бояться.
Институт был девчачий, мальчишек было немного, но почти с каждым из них я дружила на разной почве. Но это уже совсем другая тема.
Как я любила всё это!
И как мне не хотелось уезжать!
И как это всё резко прекратилось, и я оказалась учительницей в далёкой вологодской деревеньке.
Но это уже совсем другая история. И о ней у меня уже написано.
Сегодня Стёпа спросил у меня, как я представляю себе вектор времени?
И я, подумав, ответила, что я стою сбоку, в стороне, и смотрю, как оно протекает мимо меня слева направо. То есть – «созерцаю».