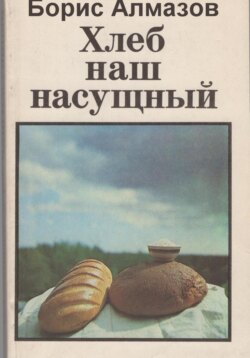Читать книгу Хлеб наш насущный - - Страница 13
1. Сначала было зерно
Это и есть селекция
ОглавлениеДаже если очень захотеть, все равно про нее не рассказать. Про селекцию тысячи книг написаны, и до сих пор она чудо и тайна. Зародилась селекция вместе с земледелием, а сколько в ней еще неизвестного! Но начнем по порядку. Название этой науки происходит от латинского слова «селекция», что означает «отбор», «выбор». В этом названии отразились древнейшие способы селекции растений и животных, то есть отбора лучшего из того, что попадало человеку в руки: лучших семян, лучших животных и т. д. Это была так называемая примитивная селекция. Только поймите правильно – слово «примитивная» вовсе не звучит здесь ругательно. Наоборот! Именно примитивными, простейшими средствами человек создал великолепные сорта растений, вывел замечательные породы животных. С развитием сельского хозяйства способы селекции совершенствовались. Земледелец и животновод научились выбирать лучшие черты в селекционном материале и путем долгих направленных скрещиваний и отбора получали то, что требовалось. Тысячи крестьян вольно или невольно занимались селекцией. На протяжении столетий они вывели великолепные сорта пшеницы (Гарновку, Арнаутку, Полтавку и многие другие), породы коней (ахалтекинскую), овец (романовскую и каракульскую) и коров (холмогорскую, ярославскую и другие). Безымянные селекционеры работали, ничего не зная о генетике, гетерозисе и прочих премудростях. Они опирались только на опыт. Правда, опыт этот был тысячелетний. Селекция велась на огромных территориях всем крестьянским сословием. Новые сорта выводили путем проб и ошибок, вслепую. Но если воскресить толкового садовода из Шумера или пахаря из античной Греции, им нашлось бы о чем поговорить с нынешними создателями новых сортов. Научная селекция в России началась в 1903 году, когда выдающийся ученый Д. Л. Рудзинский при поддержке другого ученого – В. Р. Вильямса на опытном поле Московского сельскохозяйственного института (нынешняя Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева) организовал первую селекционную станцию. Но вскоре появились Харьковская, Саратовская, Безен- чукская, Одесская и другие.
Рудзинский поначалу работал только с пшеницей, овсом и картофелем. Несмотря на то что все велось на ощупь и многое в селекции было еще теоретически не обосновано, просто еще не открыто, первые сорта были так хороши, что на Всероссийской выставке семян в Петербурге Дионисий Леопольдович получил Большую золотую медаль. После открытий, сделанных Вавиловым, его учение и заложенную им коллекцию стали широко использовать. Г. А. Карпеченко и И. В. Мичурин в те годы разработали теорию отдаленной гибридизации, которую впоследствии развил Н. В. Цицин. И сразу же резко возросла урожайность. Если русский крестьянин мечтал о стопудовом урожае, то есть о 16 центнерах с гектара, то сорта, выведенные академиком В. Н. Ремесло – Мироновская 808, Ильичевка и другие,– в производственных условиях давали по 50—70 центнеров с гектара, на опытных полях— 100, а знаменитая Мироновская 808, по мнению академика, способна дать 250 центнеров с гектара. Селекционеры – народ очень осторожный в прогнозах. Но уж если сказал такие слова сам Ремесло, значит, так оно и есть. А ведь это – полуторатысячепудовый урожай! Однако если в крестьянстве всегда все строилось на опыте, на горьких и тяжких ошибках, то теперь крестьянский опыт – малая часть науки. Хлеб делает наука, и главным крестьянином является ученый. Селекционеры работают на земле, в поле, живут, как правило, вдали от больших городов, там, где хлеб растет. Так что же, получается, что теперь всё ясно, всё сделано? Достаточно взять отдаленные сорта, подобрать их по нужным качествам, скрестить, получить урожай на опытной делянке, и все? Даже если и так, это все равно титанический труд, большой талант и, конечно же, удача. В этой книге говорится в основном о пшенице, поэтому познакомимся с требованиями к ее сортам: высокая урожайность, иммунитет к болезням, неполегаемость, неосыпаемость, хорошая вымолачиваемость, одновременность созревания, отзывчивость на удобрения, прочная соломина, безостость, выровненность хлебостоя, высокое качество зерна, сбалансированность по белкам, морозоустойчивость (для озимых сортов), засухоустойчивость и т. д. Требования эти сформулировал Вавилов и добавил, что идеал пшеницы для всех времен создать нельзя. Требования к сорту будут меняться вместе с развитием селекции и способом производства. Сортов может быть много, но они должны не изнурять, а обогащать землю, быть приспособленными к возделыванию на различных почвах. И это далеко не всё. При скрещивании качества сорта удваиваются, утраиваются, но вместе с тем умножаются и пороки. Например, повысили количество белка, а солома истончилась. И что толку в богатом зерне, если его не взять: хлеба полегли. А теперь представьте себе сорт, выведенный по всем правилам. Сколько вариантов нужно перепробовать, чтобы найти тот единственный, о котором мечтали! Рассмотрим, например, сорт Безостая 1, который вывел П. П. Лукьяненко. При скрещивании академик использовал 20 сортов озимой пшеницы из двенадцати различных районов. При желании можно подсчитать какое количество вариантов получилось бы при подобных скрещиваниях. Вероятно, миллиарды. Чтобы провести их «на ощупь», нужны тысячи лет. Значит, скрещивание глубоко продумано. И то, что при таком количестве вариантов возникает один-единственный, который нужно отыскать,– чудо! Бывает чудо вопреки правилам. Пшеница сорта Мироновская 808 – фантастический сорт. Чудо XX и, наверное, XXI века. Так вот, академик В. Н. Ремесло при его создании никакой гибридизацией не занимался. Обыкновенную, средненькую яровую пшеницу сорта Артемовна он переделал в озимую. В справочниках про нее пишут: «Сорт выведен на бывшей Мироновской селекционной станции методом многократного группового массового отбора морфологически однородных растений из исходного материала, полученного направленным изменением яровой пшеницы Артемовна в озимую». Это, скорее всего, признание чуда, но не объяснение. Такого не могло быть! Такое не переделывается! Однако не только наука не могла ничего объяснить, сам Василий Николаевич, когда его спрашивали, отвечал: «Не знаю».
И все же кое-что известно. Есть у яровых сортов гены озимости и так далее. Чтобы получить такой сорт, как Мироновская 808, должно быть произойти чудо. А чуда два раза не бывает, поэтому повторить работу Ремесло пока никто не может, да и сам он говорил, что для этого нужно повторить и то лето, и то чередование температур, и даже засеять теми же сортами пшеницы соседние делянки. Стало быть, все же чудо? Безусловно! Но вот что интересно. Чудеса почему-то случаются у самых знающих, самых опытных и самых умелых людей, у честных и добросовестных, трудолюбивых и самоотверженных. У селекционеров, не обладающих этими качествами, чудес не бывает. Касаясь только одной тысячной доли проблемы урожая, перечислив только десяток «если», отметим: чтобы появился каравай хлеба на нашем столе, бифштекс с горошком, сливочное масло, стакан молока, нужно, чтобы совпали несколько сотен «если». И опять-таки у хорошего хозяина они почти всегда совпадают, у плохого – никогда. Вот об «если» и написана эта книга,– конечно, далеко не обо всех и совсем коротко, поскольку каждое большое «если» состоит из нескольких десятков маленьких, а без каждого из них чуда не будет.
И это лишь самая малость из того, что можно рассказать о селекции, сортах и семенном фонде, поскольку без хорошего сорта урожая не будет. По подсчетам специалистов, хороший сорт – это не более 10—25 процентов успеха, то есть пятая часть победы.