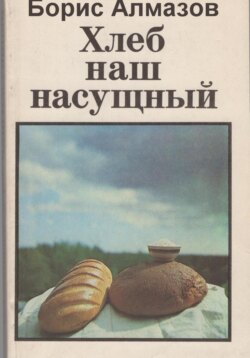Читать книгу Хлеб наш насущный - - Страница 17
2. Мать сыра земля
Хлеб растет на земле
ОглавлениеСейчас трудно поверить, но почва, на которой, собственно, и растет хлеб, фигурально выражаясь «открыта» учёными всего 150 лет назад. Знания то о ней накапливались с того времени, как человек стал сеять хлеб. Еще в Древней Греции Аристотель и Теофраст пытались классифицировать почву по плодородию. В Древнем Риме появились рекомендации, что и на какой земле сеять. В более поздние времена изучались отдельные качества почвы, и уж кто-кто, а крестьянин прекрасно знал, что чернозем плодороднее суглинка. Но что такое почва, откуда она взялась и по каким законам живет, было неизвестно. И не случайно наука о почве появилась в такой крестьянской, хлебной стране, как Россия. Создателем почвоведения был подвижник и мученик науки В. В. Докучаев. Родился он в Смоленской губернии, в селе Милюково, в семье бедного сельского священника. Была ему смолоду предуготована проторенная прадедами дорога: бурса (семинария, где готовили будущих священнослужителей) – сельский приход – и уж если «господь умудрил способностями», то после тяжелейшей учебы— духовная академия, монашество и большие церковные чины… Но другая судьба ждала семинариста Докучаева. Еще в бурсе выделялся он способностями, независимым нравом, крепкими кулаками и несокрушимым здоровьем. Почитайте «Очерки бурсы» Н. Помяловского, и вам станет ясно, как сложно было голодному поповичу выстоять, уцелеть, не заболеть чахоткой, не запить на старших курсах, не замерзнуть по дороге домой (ходили-то семинаристы на каникулы пешком и питались подаянием и писанием бумаг для крестьян). Как трудно было выломаться из схоластического традиционного для церкви мышления и уйти после бурсы в университет, в науку, которая была для него очень сложна: ведь в бурсе никаких светских предметов (химия, физика и другие) не преподавали. И как же нужно было любить Родину и народ свой, чтобы всю жизнь, "перебиваясь с хлеба на квас", «делать пауку» для мужика, для хлебороба!
По собственным подсчетам Василия Васильевича, изучая земли России, он только пешком прошел 10 тысяч километров – четверть экватора. Привычный к голоду и холоду, независимый в суждениях и упрямый в труде, Докучаев уже в Петербургском университете занялся почвенными исследованиями, ещё не подозревая, вероятно, что эти занятия и станут основой будущей науки. После окончания университета он участвовал в создании почвенной карты европейской части России и в 1883 году опубликовал книгу «Русский чернозем». В ней заложены основы науки о почве и впервые дано ее определение. В свое время она, как бомба, разнесла все тогдашние представления в этой области. Докучаев категорически отверг господствовавшее мнение, что почва – горная порода, минерал. «Почва – не просто верхний слой земной коры и не слой, в котором просто располагаются корни растений. Это самобытное природное тело, особая оболочка земли, управляемая своими „почвенными законами».
Докучаев доказал, что почва – особое царство природы, самостоятельное, как растения, животные, минералы, а главное – живое, изменяющееся. Он писал: "Почва есть самостоятельное естественно-историческое тело природы, и образуется она в результате взаимодействия климата, растительности материнской породы и возраста страны».
Иными словами, возникая на различных горных (материнских) породах, почва имеет различные свойства. Зависят они от геологического возраста страны (территории) и возраста самой почвы. Почвы располагаются строго закономерно. Докучаев разработал основы и методы составления почвенных карт. Первую такую карту Восточного полушария он начертил сам и показал на ней, как образуются почвенные зоны.
– Ну и что? – спросите вы, ну стали люди теперь знать, что такое почва, что же, от этого урожаи увеличились? Ведь это чисто теоретическая, сугубо научная проблема. Кого кроме специалистов она может интересовать? Если бы это было так, не находился бы Докучаев всю жизнь под негласным надзором полиции. Не умер бы в пятьдесят семь лет. Если бы эта проблема была чисто научная, умозрительная, не был бы Докучаев знаменем всех тех, кто сейчас пытается спасать природу. Не праздное любопытство двигало этим мучеником науки, чтобы узнать, что откуда берется, а горячее желание понять, откуда засухи, как истребить недород, а стало быть, голод. Как напитать всех хлебом насущным, то есть необходимым, где взять ту краюху, что не даст с голоду умереть? Его теория почвообразования многим умам, в том числе весьма далеким от земледелия, давала пищу для размышления. Так, если почва живая, стало быть, ее можно убить?
– Да! – говорил Докучаев. – И убивают! Убивают со страшной скоростью.
Во-первых, истощают землю постоянным возделыванием на одном месте одних и тех же культур. Хотя исстари известна пословица: "хлеб на хлеб сеять – не молотить, не веять!" Одна и та же культура выносит из почвы одни и те же химические элементы. И природа не успевает их восполнять. Следовательно, чтобы восстановить утраченное, необходима смена культур. Ведь растения не только забирают микроэлементы, но и накапливают их в почве; во-вторых, и в России, и во всем мире сельскохозяйственные культуры сеют как попало, без учета свойств почвы; в-третьих, неправильно пашут и боронуют, разрушая структуру почвы. Отсюда – пылевые бури, смыв почвы, овраги и все, что именуется теперь почвенной эрозией; в-четвертых, хищнически вырубают леса, иссушая реки, а стало быть, лишая воды целые районы. Докучаев первым в мире доказал значение лесов для повышения урожаев. Леса на водоразделах, говорил он, неприкосновенны. Если же они по каким-то причинам исчезли или вырублены, их следует немедленно насадить, иначе – голод! Докучаев занимался изучением русского чернозема в ту пору, когда только что произошел великий переворот: в степях Дона, Украины и Кубани, то есть в самых пшеничных хлебопроизводящих районах нашей страны, за баснословно короткий срок огромные степные массивы были подняты плугом. Он застал еще европейскую степную целину и мог воочию убедиться, как быстро почва теряет плодородие. Говоря современным языком, Докучаев стоял у самых истоков процесса, который сейчас так страшно развился на нашей планете – почвенной эрозии. Василий Васильевич предвидел, чем может обернуться упоение дармовым плодородием. Уже при нем во многих районах области Войска Донского урожаи резко падали. Периодические засухи довершали дело, начатое человеком. Ученый понимал, что для правильного ведения хозяйства его прозрений и статей мало. Но он не был революционером. Он был ученым, изучающим проблемы сельского хозяйства. Вот тут-то и важно отметить, что эти проблемы всегда остросоциальны. Сельское хозяйство – основа жизни в любом государстве, поскольку от него зависит производство необходимых для жизни продуктов. И человек, изучающий проблемы сельского хозяйства, даже узкоспециальные, самые частные, неизбежно приходит к социальным и политическим выводам. Странствуя по России, Василий Васильевич воочию убеждался в том, как полуфеодальный характер сельского хозяйства страны и идущий ему на смену капиталистический способ сельскохозяйственного производства разрушают самую основу сельского хозяйства и жизни – почву. Докучаев видел, что в России гибель земли неизбежна. Мелкие крестьянские хозяйства не могли бороться с эрозией, не могли покупать дорогостоящие удобрения и машины. Ни одна, даже самая сильная, сельскохозяйственная община (скажем, казачий круг) не в состоянии качественно проводить большие общественные работы, хотя например, казаки уже понимали, что сажать нужно лесозащитные полосы – по приказу Наказного Атамана, каждый казак ежегодно обязан был сажать 25 деревьев. Однако, этого было недостаточно. Да и сами посадки велись не правильно. Весной казак вырубал 25 ивовых кольев и втыкал их в землю вдоль полей. При благоприятной погоде некоторые колья приживались и проростали, остальные гибли, не превратившись в саженцы. Однако, и тех, что принимались в рост хватало, чтобы засорить пашню и очень скоро приходилось бороться с зарастанием полей и выводом их из сельскохозяйствен
ного оборота. А крестьяне земдевладельцы, не связанные военной дисциплиной, как казаки, никаких лесозащитных работ вообще не проводили. Было ясно, что для правильной посадки лесозащитных полос требовались правильные методики и усилия государства. А Россия все еще держалась на старых, полуфеодальных, полукапиталисти
ческих устоях и о сельском хозяйстве не очень заботилась. Не особенно волновало правительство и создание отечественной сельскохозяйственной науки. Ее двигали отдельные самородки, гении вроде Болотова, Комова, Стебута, Энгельгардта и других. А нужна была планомерная работа, школа почвоведов, геологов, агрономов и др. учёных разных специализаций. И Докучаев по мере своих сил старался такую школу создать. Этот крепкий седобородый человек в наглухо застегнутом сюртуке, поднимаясь на кафедру, говорил иной раз такие вещи, которые не всякий решился бы произнести.
Однако, возражать Докучаеву, спорить с ним было бессмысленно: за ним стояла наука. Он приводил доказательства своей правоты из области агрономии и геофизики. Его слова о гибельной системе землепользования и необходимости защитных мер по сохранению почвы звучали и звучат современно, а от некоторых, научно обоснованных, прогнозов до сих пор просто страшно. Он многое сумел и много успел. Самое главное – он сплотил вокруг себя единомышленников, создал предпосылки для возникновения русской школы почвоведов. Для нескольких поколений русских и советских ученых- земледельцев он был не только непререкаемым научным авторитетом, но и образцом служения науке и Родине. Его любили как отца и до сих пор чтут как героя. Разглядываете ли вы почвенную карту в классе, купаетесь ли в искусственном водоеме (будь то пруд или водохранилище), собираете грибы в лесополосе или едите кусок хлеба, помните: это все труды В. В. Докучаева, его мечты и заботы. Докучаев создал теорию почвообразования, объяснил возникновение почвы и закономерности на геологической структуре и материнской породе, а вот его современник (всего на год старше), иногда даже говорят – сооткрыватель, П. А. Костычев сумел показать в своих работах, что почвообразование – не только геологический, но и биологический процесс, связанный с развитием на почве растительности и даже животноводства. Сын крепостного из-под Шацка, Павел Андреевич Костычев благодаря фантастической одаренности и упорству сумел получить прекрасное образование. Он учился в Московской земледельческой школе, а затем в Петербургском земледельческом институте. Прожил он всего пятьдесят лет (1845—1895), но за это время сделал столько, сколько, пожалуй, под силу только большому научно-исследовательскому институту.Агрономия, почвоведение, ботаника, химия, микробиология – в каждой из этих наук он был выдающимся ученым. Из-под его пера вышло более ста научных исследований. Он был выдающимся педагогом и широко известным деятелем в области высшего сельскохозяйственного образования в нашей стране. Он автор первого в России учебника по почвоведению. Цепкий и ясный ум Костычева постоянно искал ответа на один вопрос: как повысить плодородие почв, как накормить голодных и не изнурить земли? Он разработал учение о происхождении, составе и свойствах черноземных почв. Занимался он и другими почвами и солончаками, но именно на черноземе ему удалось выявить и изучить органические вещества почвы.
Как ученые работали! Как они успевали за свою короткую жизнь столько сделать?! Если бы Костычев оставил после себя только одну работу «Почвы черноземной области России, их происхождение, состав и свойства», слава его дожила бы до наших дней. Но ведь, кроме того, он был практиком и в основном, работал не за письменным столом, а в поле, то изучая растительность, то отрабатывая методику борьбы с солончаками, то изучая свойства удобрений…Костычев успел разработать несколько методик правильной обработки почвы: полевого травосеяния, полезащитного лесоразведения, снегозадержания (щиты на нолях. Это Костычев придумал!), борьбы с засухой и эрозией в степных районах, применения минеральных и органических удобрений… А в свободное от основных занятий время работал над проблемами виноградарства. И такого успеха достиг, что в кабинетах известнейших виноградарей мира до сих пор висят его портреты.
* * *
Кормилец! Так на Руси называли самых уважаемых, самых любимых и самых лучших людей. Кормильцем называли отца семейства, это он, налегая на кичиги плуга, добывал детям и сродникам хлеб, и не было выше титула. Велика была слава бойца, защитившего Родину в лихих боях. Заступником называли его, но и он снимал смиренно шапку, когда глава рода – кормилец—брал в руки нож и, прижимая к груди каравай, нарезал толстые ломти хлеба. Так как же называть тех, кто томился тоской обо всех голодных? Как называть тех, кто, сжигая свой мозг в пламени научных поисков, пропадая под дождями и суховеями, сбивая ноги на полях, кормил народ? И как стыдно, что мы не знаем их имен! Спросите школьника, уплетающего плюшку с маслом, имя популярного киноартиста или эстрадной звезды, он вам десяток припомнит, сидят у него в памяти имена и великих злодеев вроде Батыя, Тамерлана, Наполеона, кровью заливших мир, загубивших миллионы неповинных людей, в вот имена кормильцев, давших ему этот кусок хлеба с толстым слоем масла,– нет! Не знает! Не помнит! А ведь это все равно, что имени отца с матерью не помнить, все равно, что фамилию свою забыть… Ах, как стыдно!