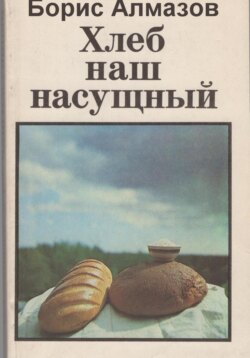Читать книгу Хлеб наш насущный - - Страница 9
1. Сначала было зерно
Откуда хлеб пришел? (Продолжение)
ОглавлениеНаша кормилица рожь – по происхождению сорняк! Вот первое открытие, которое сделал Вавилов в своем первом путешествии. Для местного иранского крестьянина, выращивающего пшеницу, уничтожение ржи в ее посевах и сейчас серьезнейшая задача.
В Афганистане ученому попались два вида сорной ржи – с ломким и неломким колосом. Неломкая вырастала вровень с пшеницей и шла в амбары, избавиться от нее не было никакой возможности. Ломкая вызревала раньше пшеницы, ее колосья распадались и так густо усеивали землю, что афганские крестьяне вынуждены были перед посевом пшеницы вениками выметать с поля зерна ржи. Сорная рожь попадалась ученым и до Вавилова, но они считали, что эту культуру когда-то здесь возделывали, а потом стали сеять пшеницу и она осталась на полях как сорняк.
Вавилов был категорически не согласен с этим мнением. Первой была пшеница! Допустить, что рожь возделывали на полях прежде пшеницы так же нелепо, как предположить, например, то, что сначала человек возделывал василек, кукуль и иные растения, засоряющие посевы. Не случайно на Востоке рожь именуют не иначе как «терзающая пшеницу». В старинных же рукописях о ржи не упоминается вообще: ее тогда не считали культурным растением. В 1924 году на афганских рынках Николай Иванович уврщел живую коллекцию пшеницы и ржи. В долинах рожь попадалась как примесь к пшенице. Но чем выше в горы, тем больше сортов ржи, в том числе почти культурной, продавали крестьяне. Холода вымораживали теплолюбивую пшеницу, и на полях афганских горцев возделывалась уже одна рожь! Вавилов и другие ученые-ботаники разыскали множество сортов самой разной дикой ржи: серно-полевой, горной, лесной… Одни растения были однолетними, другие многолетними. Может быть, именно тогда у Николая Ивановича и появилась мысль о том, что ученый, занимающийся хлебными культурами, должен внимательно присмотреться к сорным растениям: а вдруг среди них тоже есть предки современных культурных сортов злаков-кормильцев? Не случайно все научные определители растений в один голос утверждают: «Большинство злаков хорошо приспособлены к опылению ветром и производят много пыльцы. Пыльца может переноситься и насекомыми». Кто знает, может, на древних полях, где доисторический земледелец выращивал дикую пшеницу, и произошло опыление, в результате которого появились предки наших культурных сортов, а уж древний жнец заметил эти новые растения, бережно их отобрал и посеял отдельно?
Вскоре Вавилов едет в Сирию. Время, надо сказать, было самое неподходящее: там война! О том, как он добывал визу, которую не давали даже военным, как ходил с белым платком на палке по местам боев, рискуя получить пулю, как лежал с приступами малярии, можно написать приключенческую повесть… Когда-то совсем молодым Николай Иванович выписал слова великого русского ученого К. А. Тимирязева, который был не просто великим ученым, а совестью и духовным наставником русской и советской интеллигенции: «Успеха в жизни достигает тот, кто поставил перед собой большие задачи, шаг за шагом идет, проверяя себя, останавливаясь время от времени, оглядываясь назад и подсчитывая, что сделано и что осталось сделать».
Всю свою подвижническую жизнь Вавилов руководствовался этими словами. Каждое дело, каждое путешествие он начинал с четко поставленной цели и шел к ней невзирая ни на что! Самая главная цель ученого была в том, чтобы накормить всех людей. Сухим языком науки это формулировалось так: «…научное обоснование самой идеи мобилизации растительных ресурсов, поисковой работы, направленной на овладение растительными богатствами Земли». В Сирии Вавилов копался в каменных россыпях, выуживая крошечные зернышки дикой пшеницы двузернянки, по-русски – полбы, пшеницы во всех отношениях знаменитой. Про нее среди ботаников ходили слухи, что растет она на щебневых и каменных россыпях, абсолютно безразлична к засухе и почве. Ну как было не отправиться за такой пшеницей даже под пулями!
«История открытия сирийской двузернянки романтична,– пишет в своей замечательной книге «Мир растений» А. В. Смирнов.– Ее обнаружили в 1855 году. Гербарий, несколько колосков, привезли в Вену. Там он лежал почти 20 лет никому не нужный в пыли шкафов в Музее естественной истории. Наконец в 1873 году на него наткнулся немецкий ботаник Ф. Кернйке. Стал определять. Вышло, что новый вид. Кернйке не поверил. 13 лет ждал, боялся обнародовать открытие». Ботаник И. Ааронсон в 1906 году отыскал сирийскую двузернянку у подножия горы Джебал-Сафед. Он поразился крупным колосьям и заявил, что отныне начинается новая эра в селекции пшеницы. Вавилову во многом пришлось разочаровать своих предшественников. Когда он розыскал двузернянку, колосья уже осыпались. Копаясь между корнями, Николай Иванович убедился, что почва плодородная, влаги достаточно, так как она конденсировалась на камнях в холодные ночи. Значит, чтобы состоялось это чудо – хлеб, нужна земля. И это условие пока что никто отменить не в состоянии. Вавилов отправляет очередные ящики с зернами в Ленинград. И дело тут было не только в том, что дикие полбы вообще редкость, а в том, что именно они были исходной формой для культурной пшеницы, той самой, что известна человечеству с незапамятных времен. «Сеял Бата полбу»,– говорится в древнеегипетской сказке, которой, по самому приблизительному подсчету, 6 тысяч лет. «Есть же давай мне вареную полбу»,– пишет А, С. Пушкин в сказке «О попе и о работнике его Балде». Но не погоня за уникальными образцами и музейными редкостями двигала ученым, а жизненная необходимость в хлебе насущном, нужда в исходном материале для новых сортов пшеницы. Самый распространенный в мире сорт твердой пшеницы – Харьковская 46 – создан при участии одного из древнейших сортов полбы. Так удалось ли все-таки найти предка нашей пшеницы? Сорок лет работали ботаники над этим вопросом, и академик П. Жуковский подвел итог этому этапу поисков: «Происхождение мягкой пшеницы остается неизвестным». Что же, все труды, страдания и поиски напрасны?«Напрасных трудов не бывает!» – скажет незадолго до смерти П. П. Лукьяненко (а умер он в поле, где трудился всю жизнь) – создатель лучшей озимой пшеницы сорта Безостая 1, пригодной почти для всех районов мира. «Мне повезло! – говорил он в телеинтервью.– У меня кое-что получилось! Судьба счастливая! По те селекционеры, которым не удалось вывести новые сорта, что же, они трудились напрасно? Напрасных трудов не бывает! Они прошли теми дорогами, что заканчиваются тупиком,– значит, нужно искать другую дорогу! – И после короткой паузы добавил: – Пока заканчиваются щупиком! А там кто его знает! Бывает, что тропочка, по которой уже давно в науке никто не ходил и все счи- тали, что там пути нет, оказывается главной дорогой! Напрасных трудов не бывает!» Ну, а средства на научный поиск? Ведь все эти опытные поля, делянки, институты стоят денег—и все впустую? Не дороговато ли? Нет! Когда речь идет о хлебе, вообще трудно говорить о рентабельности! Недаром еще в баснях Древнего Шумера рассказывалось, как богач, оголодав, готов был отдать все свои сокровища за черный сухарь. Цена хлеба – жизнь! Если же говорить о затратах и деньгах, то даже в этой области успех селекционера дает колоссальную прибыль. Так, на выведение сорта Безостая 1 и ее внедрение коллектив, руководимый П. П. Лукьяненко, истратил 100 тысяч рублей! Вроде бы немало. Но с 1959 по 1973 год только в СССР (а произрастает этот сорт теперь и за рубежом) на суммарной площади в 75.5 миллиона гектаров он дал дополнительно зерна примерно на 3 миллиарда рублей! (данные на 1986 г) Иными словами, на каждый рубль, истраченный селекционерами, ежегодно приходится 30 тысяч рублей чистой прибыли. Следовательно, вкладывание денег в науку – дело выгодное. Так что же удалось выяснить за сорок лет поисков предков пшеницы?