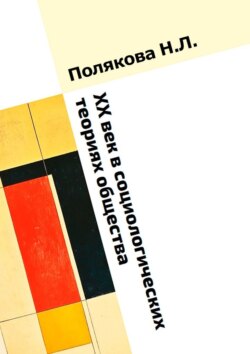Читать книгу XX век в социологических теориях общества - - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I. Социологические теории общества начала XX века – 70-х годов XX века
Глава 1.
Социально-экономические условия становления обществ XX в.
1.2. «Закат» либеральной версии национального государства, становление социального государства
ОглавлениеФундаментальным процессом, определявшим процесс становления обществ модерна в XIX в., был процесс становления наций, сочетавший в себе становление национальной экономики и национального государства. В последней трети того столетия изменения коснулись не только национальных экономик, но и национального государства.
Нация – это тип социального сообщества, формирование которого образует компонент или одну из сторон общего процесса становления обществ модерна. Нация является основой нового типа государства – национального государства. Национальное государство складывается в результате оформления нации как нового типа социального и политического сообщества.
Становление наций, начавшееся в конце XVIII века, осуществлялось под влиянием либеральной идеологии. В рамках либерализма нация рассматривалась, во-первых, исключительно политически и определялась гражданством. Во-вторых, становление наций считалось особым этапом в исторической эволюции развития от семьи к племени, к нации и в конце концов к состоянию, в котором «национальные барьеры» совершенно исчезнут в едином человечестве, осуществится ассимиляция малых народов в более крупных на основе общей культуры и языка.
В 1880—1914 годах, как об этом свидетельствуют историки4, в общем процессе становления европейских наций появились перемены, которые затронули национальные чувства внутри уже существующих наций-государств и которые выразились в резком сдвиге вправо. Для описания этого сдвига вправо и был создан термин «национализм».
Национализм 1880—1914 годов определялся, с одной стороны, резко возросшими процессами миграции, а с другой – образованием к этому времени на основе «принципа национальности» целой группы новых государств – объединенных Германии и Италии, фактического раздела после Соглашения 1867 г. Австро-Венгрии, а также появления множества крупных политических образований, претендующих на статус национальных государств – от Ирландии, Бельгии, Финляндии, Польши до добившихся независимости от Турции Греции, Сербии, Румынии, Болгарии. «Национальная проблема» превращается в важный вопрос внутренней политики практически во всех европейских государствах. Как указывает Эрик Хобсбаум, «именно в этот период националистические движения стали возникать там, где раньше никто о них не слыхал, или даже среди народов, прежде представлявших интерес только для фольклористов»5.
Эти процессы положили начало тому, что любая народность, объявившая себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение, означавшее право образовывать на своей этнической территории независимое государство. В результате критериями национальной государственности становится этнос и язык, начинается процесс становления агрессивных националистических идеологий и националистических движений, наступает время, когда «национальная идея» обретает массовую поддержку.
Этнический национализм получил громадную поддержку как среди масс, так и среди праворадикальной части высших слоев общества в силу их традиционалистского страха перед крупномасштабным переструктурированием социальной и экономической жизни, перед процессом урбанизации и появления новых «нетрадиционных» классов и слоев, перед диаспорной миграцией самых различных народов, которые еще не успели выработать навыков совместного существования с местным населением.
Этнический национализм получил теоретическое обоснование в целом наборе расовых теорий, в которых утвердившееся деление человечества на расы, отличавшиеся по цвету кожи, было дополнено сложной системой «расовых» признаков для различения народов, имевших белую кожу, например, «семитов» и «арийцев» и т. п. Свою лепту в оформление этого комплекса идей внес также социал-дарвинизм и некоторые социальные интерпретации генетики. В результате слияния всего этого дикого комплекса идей, выступавшего от имени якобы «науки», оформился расизм (X. Чемберлен, Ж.В. де Ляпуж, О. Аммон, Л. Вольтман и др.), и вульгарная ксенофобия приобрела выраженный «расовый» характер. Этот расовый национализм был дополнен языковым национализмом, поскольку вопрос о национальном языке – это вопрос о власти и социальном статусе языковой группы, это вопрос политики и идеологии (и только в последнюю очередь – культуры).
Таким образом, национализм из понятия, связанного с либеральными идеями, утверждавшими принцип «права наций на самоопределение», превратился в шовинистическое, имперское, агрессивно-ксенофобское образование – в правый радикализм. Сам термин «национализм» был создан для описания именно этой тенденции.
Такой расовый национализм разрушил либеральную идею нации и национально-государственной идентичности, под влиянием которой происходил процесс становления наций-государств в XIX в. Он внес новый, очень значимый конфликт в систему социальных отношений, в систему формирования статуса и идентичности. Этот расовый конфликт в сочетании с классовым конфликтом, классовыми отношениями и классовой идентичностью определили систему социальных отношений обществ XX в., основные проблемы и сложности социальной интеграции.
Ответом на этот вызов, брошенный социальной стабильности и национальной интеграции со стороны правого национализма, могло быть только активное вмешательство государства в систему социальных отношений, в решение проблем социальной интеграции, оформление системы гражданских прав.
Становление социального государства. Каждый этап становления и функционирования обществ модерна связан и даже в известной мере обусловлен конкретным типом взаимодействия гражданского общества, государства и экономики. История этого взаимодействия представляет собою движение от политики меркантилизма к фритредерской политике, а от последней – к социальному государству. Известно, что начальный этап становления капитализма, период первоначального накопления связан с активным вмешательством государства в хозяйственную жизнь. Вмешательство или участие государства в хозяйственной жизни в самых различных формах – протекционизма, займов, контроля, правового регламентирования и пр. – получило название политики меркантилизма. Меркантилизм оказал громадное влияние на становление национальных хозяйственных комплексов, но в конце XVIII – начале XIX веков его место заняла концепция невмешательства государства в хозяйственную и социальную сферы, получившая название фритредерство. Классическая формулировка этой позиции была разработана в рамках шотландской школы моральной философии и политэкономической мысли, главным представителем которой являлись А. Смит и А. Фергюсон. Именно программа Адама Смита, включавшая положения о неприкосновенности частной собственности, невмешательстве государства в экономику и систему социальных отношений и сведение его функций к обеспечению условий для развития личной инициативы и гарантии личных прав, стала основой для становления классического капитализма свободного рынка и свободного предпринимательства, достигших своего расцвета в середине XIX столетия.
Однако несбалансированность экономического развития и последовательная череда экономических кризисов, о которых говорилось выше, привели к социальной нестабильности, которая наблюдалась в период 1880—1914 гг. Эти явления заставили пересмотреть либеральную доктрину, утверждающую принцип невмешательства государства в социальные и экономические отношения.
«Социальный вопрос». Отличительной чертой экономического развития в 1873—1914 гг. является интернационализация экономик, в которых, несмотря на очевидный экономических рост, в период с 1873 по 1895 гг. впервые одновременно проявились и черты депрессии. Это было связано с установлением низких цен на продукцию первичного сектора сразу во многих странах. Современники назвали этот период «Великой депрессией», не подозревая, что все еще впереди и это название будет использовано для более глубокого спада 1929—33 годов.
Само ощущение депрессивности подпитывалось тем обстоятельством, что в конце XIX в. ведущим европейским державам пришлось столкнуться с «социальным вопросом», явившимся результатом неравномерного процесса индустриализации и структурной перестройки экономики. И в этом вопросе, так же, как и в других, картина носила противоречивый характер. С одной стороны, налицо был рост уровня жизни, рост потребления продовольствия на душу населения, улучшение условий быта в рамках городской жизни. С другой – рост нестабильности и негарантированности существования, которые были связаны с целой серией факторов общей реструктуризации промышленности. Развитие крупной промышленности сопровождалось уходом в прошлое мелких и ремесленных производств. Этот процесс породил массовую безработицу среди неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих. «Социальный вопрос» встал как проблема безработицы, трущоб, нищеты и пьянства среди низших классов, отсутствия медицинского и социального страхования. Плохие социальные условия существования стали предметом широкого обсуждения в обществе, а также политического давления со стороны рабочего движения.
Результатом осознания этих проблем явилась целая серия беспрецедентных мер, которые впервые стали применяться в социальной сфере на национальном уровне. Впервые начала оформляться государственная социальная политика. Прежде всего, были приняты законы о труде, создана система социального страхования. Разрабатывались меры, касающиеся введения законов о минимальном уровне заработной платы, прогрессивном налогообложении, муниципальные и национальные жилищные программы, создавались программы национальных систем здравоохранения и образования. В общем и целом, настало время активного вмешательства государства в социальную жизнь. Вместе с тем представление о том, что государство несет свою долю ответственности за систему социальных отношений, утверждалось очень медленно. Ситуация изменилась только во время Первой мировой войны.
В Англии политика активного вмешательства государства в систему социальных отношений была инициирована во времена правительства Ллойда Джорджа. Что касается Франции, то там существовала сильная парламентская оппозиция политике вмешательства государства, которая была преодолена законодательным разрешением деятельности профсоюзов, введением в 1900 г. 10-часового рабочего дня для женщин и детей, и объявлением воскресенья обязательным выходным днем.
Первым государством, в котором система социального страхования была создана сверху, была Германия. Это сделал правительство Бисмарка. Однако уже в XVIII в. государство рассматривалось в Германии как инструмент, способствующий благосостоянию нации в целом и каждого члена общества в отдельности. Примером тому может служить социальный проект, разработанный И.-Г. Фихте: «В соответствующем правовому закону государстве три главных сословия нации должны быть рассчитаны в зависимости друг от друга, и каждое должно быть ограничено определенным количеством членов. Каждому гражданину должно быть обеспечено соответствующее участие во всех продуктах и фабриках страны в обмен на результаты приходящейся на его долю работы; то же и общественным должностным лицам, но без видимого эквивалента.
Для этой цели стоимость всех вещей должна быть твердо установлена и поддерживаема по отношению друг к другу, равно как и цена их по отношению к золоту. Наконец, чтобы все это было возможно, необходимо сделать невозможной всякую непосредственную торговлю граждан с заграницей»6
В 1850-х годах Лоренц фон Штейн сформулировал основные моменты концепции социального государства и социальной демократии. По его мнению, государство должно способствовать благосостоянию каждого и приобретению собственности каждым, обеспечивать основы существования для всех, что и позволило бы разрешить противоречия между трудом и капиталом. Именно государство должно устранять и разрешать острые классовые противоречия – эта позиция имела в Германии значительно больше сторонников, чем либеральная доктрина Манчестерской школы о невмешательстве государства в экономику и общество.
Идеи вмешательства государства в экономику и общество, а также интеграции рабочего класса в систему экономических и политических отношений капиталистического общества дополнялись в германском обществе весьма активным противодействием и даже запретом – во времена Бисмарка – социалистической деятельности в 1878—1890 годах. Государство само претендовало на решение социального вопроса7.
Планирующие, защитные и умиряющие конфликт мероприятия и законы, принимаемые государством, касались не только «социального» вопроса. Планирующая деятельность государства стала распространяться на сферу экономики и бизнеса.
Становление практики государственного вмешательства в экономику. Реальные практические планирующие мероприятия со стороны государства получили, например, в Германии развитие в период Первой мировой войны. Это выразилось в ограничении государством производства товаров мирного спроса; замене рыночной системы централизованной системой распределения сырья, оборудования; регулировании выпуска продукции, нормировании потребления посредством введения карточной системы распределения продуктов питания и товаров массового потребления; установлении прямого контроля над внешней торговлей; установлении контроля над трудовыми конфликтами. Была введена трудовая повинность.
Механизмом государственного регулирования стал Военно-промышленный комитет, создавший так называемые военные общества, которыми ведал Отдел по снабжению сырьем. Эти общества обладали правом руководства конкретной отраслью промышленности: определяли номенклатуру выпускаемой продукции и ее количество по каждому предприятию. Специальные организации руководили и сельским хозяйством. Особенностью немецкого варианта государственного регулирования была строгая бюрократическая централизация и связанный с этим силовой характер такого регулирования.
Более мягким и менее бюрократизированным было государственное регулирование в США8. Вмешательство государства в экономику было совсем не характерно для политической и экономической культуры США, и еще менее – для реальной практики отношений государства и бизнеса. Тем более показательным является тот факт, что в конце XIX в. академическая социальная мысль обращается к проблеме использования государства в целях регулирования экономических и социальных отношений. В 1889 г. профессор права Принстонского университета (ректор этого университета в 1902—1910 годах), будущий президент США от демократической партии Томас Вудро Вильсон выпускает книгу «Государство. Элементы исторической и практической политики. Взгляд на институциональную историю и управление», в которой рассматривалось использование административных возможностей государства для управления социальными и экономическими отношениями.
Практические же элементы регулирования бизнеса и социальных отношений со стороны государства появились уже во времена президентств Теодора Рузвельта. В условиях усиления социально-экономического напряжения и конфликтов Рузвельт возглавил кампанию против трестов. В период президентских выборов 1912 г. он выступил с программой регулирования деятельности монополий и расширения социального законодательства.
Вудро Вильсон продолжил политику схождения государства и бизнеса и использования государства для защиты общества от «дикого» рынка. Став президентом, Вильсон провел целый ряд прогрессивных законов, способствовавших снятию напряжений в обществе: закон о тарифах и подоходном налоге (1913 г.), федеральный резервный акт (1913 г.), антитрестовский закон Клейтона (1914 г.), закон Адамсона о 8-часовом рабочем дне на железных дорогах (1916 г.).
Во время Первой мировой войны правительство Вильсона создало Военно-промышленное бюро, занимавшееся распределением военных заказов. Были организованы управления по судоходству, дорогам, топливу, продовольствию, под государственный контроль поставлена внешняя торговля. Таким образом, традиционный административный аппарат государства был дополнен специальным аппаратом государственного регулирования промышленности и торговли.
Классическим примером политики государственного регулирования в США явился «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта – система государственных мероприятий, осуществленных в США в 1933—1938 гг. в целях выведения экономики и общества в целом из кризиса 1929—33 годов. Социально-политические взгляды Франклина Рузвельта были близки взглядам Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Он, так же как они, был сторонником идей государственного регулирования капиталистической экономики и модернизации правовых институтов в целях упорядочения под эгидой государства социальных отношений, которые в результате неконтролируемой деятельности капитала и свободы рынка оказались на грани опасного кризиса. В 1933—34 гг. администрацией Ф. Рузвельта были предприняты меры экономического урегулирования – Закон о восстановлении промышленности (NIRA) (1933 г.) и Закон о регулировании сельского хозяйства (ААА) (1933 г.). NIRA предусматривал введение в различных отраслях промышленности «кодексов честной конкуренции», которые фиксировали цены на продукцию, уровень производства, распределяли рынки сбыта. ААА предусматривал подъем цен на продукцию сельского хозяйства и выдачу премий за сокращение поголовья скота и посевных площадей.
В период 1935—38 гг. в условиях нарастания социального конфликта был принят закон о трудовых отношениях (NLRA) (1935), закрепляющий зафиксированное уже в NIRA право рабочих на организацию в профсоюзы; первый в истории США Закон о социальном обеспечении (SSA) (1935); Закон о справедливом найме рабочей силы (FLSA) (1938), устанавливающий минимум заработной платы и максимум продолжительности рабочего дня для целой серии профессий.
Рабочее и социальное законодательство «Нового курса» Ф. Рузвельта отражало стремление государства снять напряжение в социальных отношениях, смягчить конфликты классов и групп, гарантировать гражданские права обществу и вывести из кризиса экономику.
Апелляция к государству со стороны различных организаций гражданского общества. Изменение роли государства и его вмешательство в социальную сферу и сферу бизнеса было результатом не только воли самого государства, но и апелляции к нему со стороны гражданского общества и, прежде всего, организованного рабочего класса. Государство как арбитр и полноправный участник диалога между трудом и капиталом, как гарант политических свобод и гражданских прав – эта его роль оформилась в результате политических процессов начала XX в.
Конец XIX в. был эпохой трансформации классовой структуры общества и формирования массового рабочего класса с четко выраженной классовой идентичностью. Этот процесс сопровождался становлением движений за улучшение положения рабочих: за повышение заработной платы, улучшение жилищных условий и условий труда, 8-часовой рабочий день и т. д., а также активной политической деятельностью социалистического и коммунистического характера. Наряду с созданием общенациональных организаций в рабочем движении отчетливо присутствовало стремление к международному объединению рабочего класса, к созданию организаций наднационального уровня в целях борьбы за решение экономических и социальных проблем рабочего класса.
Политические организации рабочего класса сыграли громадную роль в процессах социальной и политической трансформации конца XIX – начала XX вв. Принятие законов и разработка политики социального обеспечения, направленных на решение «социального вопроса», осуществлялись в огромной мере благодаря сильному давлению со стороны этих организаций. Громадную роль эти организации сыграли в борьбе за права женщин и введение всеобщего избирательного права.
Политические организации рабочего класса различались между собой как своими программными целями, так и формами борьбы. Коммунистические организации ставили целью переход к социализму революционными методами. Таков был большевизм в России или Коммунистический Союз Спартака в Германии. Синдикалистские и анархические организации ставили задачей переустройство общества в духе своих «безгосударственных» проектов, в том числе и путем использования внепарламентских способов сопротивления, таких как всеобщая стачка. Примером может быть созданный в 1893 г. в Голландии Национальный Рабочий Секретариат (НАС), попытавший использовать в этих целях забастовки железнодорожников. Во Франции в 1895 г. была создана Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), на базе которой получили самое широкое распространение радикальная теория революционного синдикализма, прудонизм и анархизм, предполагавшие такие радикальные формы политической борьбы, как забастовки, саботаж, бойкот. В 1906 г. ВКТ приняла «Амьенскую хартию», в которой заявила о своей анти-парламентской политике. Однако эта политика не принесла успеха. ВКТ была вынуждена пересмотреть свои политические методы.
Наиболее жизнеспособными и наиболее эффективными оказались социалистические организации. Фундаментальным требованием всех социал-демократических программ было введение всеобщего избирательного права. В отличие от синдикалистских и анархистских организаций, социалистические организации и движения вошли в политические системы национальных государств и стали частью их политического истеблишмента. Так, в 1893 г, в Великобритании была создана Независимая рабочая партия, а в 1900 г. – Комитет рабочего представительства, который в 1906 г. был переименован в лейбористскую партию. Социалистические организации, начиная с первых десятилетий XX в., оказали огромное влияние на реальную государственную политику почти всех ведущих европейских стран. Об этом свидетельствует не только пример Лейбористской партии Великобритании, но и участие российских социал-демократов в российских Государственных Думах, немецких социал-демократов – в составе правительства Веймарской республики в 1918—1923 и 1928—1930 годах.
Кроме политических организаций рабочего класса в начале XX в. самым активным образом формируются новые профсоюзы. Их новизна и отличие от старых гильдий состояло в том, что это были организации рабочего класса, а не ремесленников и подмастерьев. Старые профсоюзы скорее напоминали замкнутые организации взаимопомощи, в то время как новые профсоюзы взаимодействовали с государством и предпринимателями, демонстрировали тенденцию к национальному объединению, к правовой и политической защите интересов рабочего класса. С начала XX в. профсоюзы стали главными представителями интересов рабочего класса и людей наемного труда в целом, а также полноправным партнером (наряду с бизнесом и государством) при решении вопросов социальной и экономической политики. Социалистические идеологии стали ведущими идеологиями рабочего класса – и шире – людей наемного труда – и определяли ориентацию не только политических, но и профсоюзных организаций рабочего класса.
Таким образом, общий процесс схождения государства, экономики и общества в самых различных формах явился совершенно новой общей социально-экономической практикой, вытеснившей практику фритредерства и либеральную доктрину конца XVIII – XIX веков.
Взамен были заложены основания практики социального государства, важнейшими элементами которой стали: регулирование государством экономической жизни страны в интересах всего общества; регулирование отношений в сфере труда и найма; поддержание социальной справедливости и гражданского равенства, осуществление государством социальных функций и гарантирование основных гражданских прав, касающихся социального обеспечения (пенсионного, страхового); создание государственных систем образования и медицинского обслуживания и др.
4
См. об этом: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. – М., 1998
5
Хобсбаум Э. Нации и национализм 1780 г. – М., 1998. С. 168
6
Фихте И. Г. Сочинения в двух томах. Т. 2. – Санкт-Петербург, MCMXCIII. С. 281
7
См. об этом: Дидерикс Г. А. и др. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. – Москва, 1998.
8
См. об этом: Мальков В. П. Франклин Рузвельт. М., 1988.