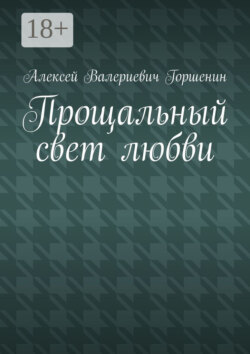Читать книгу Прощальный свет любви - - Страница 12
11
Оглавление– Сергей Владимирович, – возникла в дверях спаленки Люба, – пойдемте, и мы посидим, помянем.
Я двинулся за ней в залу. Там уже собрались ближайшие родственники Михаила Ефимовича и Валентины Кондратьевны: их сыновья и дочери со своими детьми, некоторые из которых успели уже обзавестись и собственными чадами. Не было на этой поминальной тризне давно умерших родителей дяди Миши и успевших уйти в мир иной его брата Павла и сестры Марии. Не было и любимого шурина Василия. Всех их пережил Михаил Ефимович! Но и оставшихся после его кончины – тех, кому завещал он продолжать род Железиных, больших и малых, собралось сейчас десятка полтора, не менее.
Я присоединился к сидевшим за поминальным столом, прошелся по ним взглядом. Практически в каждом просматривалось нечто неуловимо железинское. И в каждом можно было увидеть то черты Михаила Ефимовича¸ то Валентины Кондратьевны, то сразу обоих.
Я невольно любовался ими всеми и думал о том, что супруги Железины не только дали детям своим жизнь, поставили на ноги и задали им в ней верное направление. Они заложили еще и прочную духовную основу, крепкий нравственный стержень, без чего человек не может быть полноценным человеком – цельным и самодостаточным. И ничего для этого не придумывали. Просто жили по заветам и традициям своего народа, которые помогали преодолевать им труднейшие преграды и всегда, даже в моменты тяжелейших испытаний сохранять в себе истинно человеческое…
Погруженный в свои мысли, я прослушал, что говорил, поднявшись, старший сын Железиных Николай. Уловил только последнее слово «помянем». Не чокаясь, выпил со всеми. В разлившемся за столом печальном молчании, когда примолкли даже самые маленькие, слышался только легкий звон посуды. Длилось оно, впрочем, недолго. Тот же Николай, сидевший напротив, попросил меня:
– Сергей Владимирович, скажите что-нибудь! Вы же дружили с отцом. Он вас очень уважал.
Мне действительно хотелось сказать о нем что-нибудь. Более того – считал своим долгом это сделать. И даже кое-какие словесные заготовки приготовил. Тем не менее просьба Николая застала меня врасплох.
Что я мог сказать о дяде Мише, которого неплохо вроде бы знал и немало с ним общался? Как я, сам уже достаточно поживший, хотя и более молодого поколения человек, воспринимал и ощущал его?
Для меня, чья жизнь началась на исходе войны, а детство пришлось на первые послевоенные годы, еще не остывшие от огненного дыхания великой войны, люди, подобные Михаилу Ефимовичу Железину, всегда были живым, реальным, а не бронзово-мемориальным, воплощением русского воина-труженика – коренника как в делах ратных, так и трудах мирных. «Величайшее поколение величайшей силы духа», – назвал их герой романа одного из советских писателей1. Что это действительно так, подтверждает жизнь каждого из них, в том числе и Михаила Ефимовича, который честно и самоотверженно воевал, а, вернувшись, так же честно, с полной самоотдачей, работал. Его ратный и мирный труд не оставался незамеченным. Но сам он не стремился быть на виду. Напротив, стесняясь внимания к себе, старался оставаться в тени. На фоне липовых ветеранов-фронтовиков, которых немало развелось в нашем XXI веке, это особенно бросалось в глаза.
С дядей Мишей я сошелся, когда сам был уже в довольно-таки зрелом возрасте. Притягательный своей душевной аурой, он как-то сразу стал мне близок. Но была и причина глубоко личного для меня свойства.
Дело в том, что отец мой тоже принимал участие в Великой Отечественной войне. Правда, в отличие от дяди Миши, совсем недолгое. В декабре 1943 года он, молодым парнишкой-связистом с катушкой телефонного кабеля на спине, где ползком, где короткими перебежками под огнем противника прокладывал связь для наступающих частей Западного фронта. В кровопролитных этих боях моему отцу суждено было продержаться невредимым всего немногим больше недели. Тяжелое осколочное ранение от разорвавшейся рядом мины в область шеи с повреждением спинного мозга навсегда вывело его из строя. Почти полгода по этой причине он был парализован и не мог ходить. После лечения в одном из эвакуационных госпиталей Кавказа в августе 1944 года инвалидом первой группы вернулся домой. А в октябре следующего родился я. Но об этом он уже не узнает. За несколько дней до того осколок мины в позвоночнике, который хирурги в госпитале побоялись трогать, сказал свое последнее слово – моего отца не стало, а я еще до рождения сделался сиротой и безотцовщиной, его не увидев и не узнав.
Дядя Миша воевал примерно в тех же местах между Оршей и Витебском, и я подумал, что, может, они пересекались и даже были знакомы. А подумав так, почувствовал, помимо духовной, еще и что-то вроде родственной связи. Поэтому и воспринимал его как родного отца, которого судьба отняла у меня до появления на свет. И втайне жалел, что не суждено было познакомиться и сойтись тогда же, поздней осенью сорок пятого, дяде Мише с моей матерью, совсем молодой еще вдовой, и усыновить меня. Было немного стыдно перед Валентиной Кондратьевной за такие мысли, но мне действительно несколько эгоистически было этого жаль. Впрочем, не столько за себя, сколько за свою мать, которая после смерти моего отца еще два раза выходила замуж, но так и не обрела счастья…
А вот любовный союз супругов Железиных – это как раз тот редкий случай, когда Амур угодил точнехонько в «десятку», поразив одной стрелой сердца Михаила и Валентины и ею же соединив их в единый любящий организм – «единосущный и нераздельный», какими и оставались они на протяжении всей дальнейшей совместной жизни. Обремененные большими и малыми заботами, в тяготах и радостях бытия, они не забывали главного – любить. Друг друга, детей своих, внуков, дорогих и близких людей, родную землю, все живое на ней и саму жизнь вокруг. И этой неизбывной любовью они не переставали доказывать, что нет ничего важнее и значительней ее, что именно она, начинаясь в любящих сердцах и устремляясь в космические выси и дали, «движет солнца и светила» и продолжает жизнь в бесконечности.
И, задерживая взгляд на младших Железиных, я с надеждой думал, что со временем и они, усвоив науку любви старших, понесут ее как эстафету «разумного, доброго вечного» дальше. Уже ради одного этого поколению Михаила Железина стоило, не жалея себя, воевать, отстаивая с оружием в руках родную землю, а победив, все так же на пределе человеческих сил и возможностей отлаживать мирную жизнь, в которой, верилось им, «завтра будет лучше, чем вчера». И пусть самим вкусить этой «лучшей» жизни не пришлось, однако почву для нее они добросовестно и терпеливо возделывали. Худо, что плодами их кропотливого труда со временем стали часто пользоваться совсем не те, кому они предназначались. Но не Михаила и Валентина Железиных в том вина. Впрочем, это уже, как говорится, совсем другая история…
«Вот как-то так», – решил, наконец, я, медленно поднимаясь со своего стула и лихорадочно соображая, как бы это все короче и удобоваримее высказать.
Поднявшись, я вдруг заметил на тумбочке в переднем углу залы большой портрет дяди Миши в темно-коричневой деревянной раме, перевитой по углам траурными лентами, и горящей свечкой перед ним. Дядя Миша, словно слушая мои мысли, смотрел с него на меня внимательно, но в глубине глаз таилось сомнение. Как в тот раз, когда читал в газете мой очерк. Под этим взглядом рухнули все мои «заготовки». Неужели и сейчас я «заливаю солнцем» дядю Мишу, оставляя в тени что-то самое важное о нем?..
И тут до меня дошло, что дело, возможно, и не в том. Вернее не совсем в том. На портрете, срисованном с одной из фотографий семейного альбома, доморощенный художник запечатлел неистребимое сомнение дяди Миши, а достоин ли он, обыкновенный, ничем не примечательный, по его разумению, человек, каких не пересчитать в России, серьезного к себе внимания, когда полно персон куда более важных, заслуженных, значимых.
Но я-то был безоговорочно уверен, что достоин. И словно пытаясь убедить в том же самого дядю Мишу, обратился к его портретному образу:
– Дядя Миша… – сказал я. – Ты был настоящим человеком, отважным и работящим, надежным и верным в жизни и любви. Такими, как ты, всегда держалась и оберегалась земная жизнь. И, уверен, благодаря теперь уже вашими усилиями, продолжатели рода Железиных, – повернулся я к сидящим напротив сыновьям, дочерям и внукам дяди Миши, – будет держаться и оберегаться жизнь земная дальше. За настоящего человека!..
– И за любовь! – всхлипнула Люба. – Тоже настоящую. Какая у них с мамой была и нас, детей и внуков, солнышком согревала
И за любовь!.. – эхом откликнулся я.
Домой с поминок мы с женой возвращались уже на закате. Прогретый за день воздух стремительно остывал, напоминая о том, что отнюдь не лето сейчас, а уже первый осенний месяц на исходе. Ночами низины заволакивает густой туман, а кое-где и иней первых заморозков серебрит пожухшую траву.
Мы уже почти дошли до дома, как из тальниковых зарослей согры взмыли один за другим в темнеющее небо два серых птичьих силуэта. И через несколько мгновений с высоты над нами раздалось знакомое «курлы». «Кур!» – начинала одна из птиц. «Лы!» – подхватывала другая. В прохладе сгущающихся сумерек журавлиная песня разносилась далеко окрест. И опять, как и много лет назад, казалось, что там, в вышине, булькая и перескакивая с камешка на камешек, течет невидимый ручей.
Я заволновался, остановился, задрал голову. Журавлиная пара набрала высоту и, вытянувшись друг за другом в одну линию, плавно заскользила к тускнеющей полоске горизонта.
«Они, или нет? – молча спросил я себя, вспоминая тех, что увидели мы с дядей Мишей когда-то, отправляясь на утренней заре по грибы. И тут же засомневался: – Вряд ли? Столько уж времени прошло! Скорее, их потомки, не бросившие насиженное родительское гнездо. Впрочем, – подумалось, – какое это имеет значение? Важно, что по главной своей сути эти такие же, как и те – верные друг другу и гнезду своему в родной болотистой согре.
Жена, проследив за моим взглядом, тоже залюбовалась полетом журавлиной пары. А журавли то кружили высоко над согрой, то пикировали к ее осиново-тальниковым зарослям, то снова свечой взмывали в небо, а потом вдруг зависали в вышине, словно стараясь до мелочей оставить в памяти перед дальней дорогой каждый кустик, кочку, камышинку. И конечно гнездо свое на кривой болотной коряге в высокой осоке.
– Смотри, что выделывают! – восхищенно сказала жена.
– Совсем скоро в теплые края полетят. А пока вот прощаются. Есть у журавлей нечто вроде ритуала «прощание с родиной». Его сейчас мы как раз и наблюдаем.
Журавли перестали «висеть» в воздухе. Сначала сорвалась с места одна птица, затем, через несколько мгновений, вдогонку, другая, и опять потянули обе они в чернеющее небо…
А мне почудилось, что и не журавли это вовсе, а Валентина и Михаил Железины в их обличии прощально кружит над домом своим. Несколько лет назад душа Валентины Кондратьевны первой вознеслась в горние выси и терпеливо ждала все это время своего любимого, никуда далеко не улетая и даже время от времени переговариваясь с ним. И теперь вот – настал черед – устремилась к ней и душа Михаила Ефимовича, чтобы, слившись снова в «единосущное и нераздельное» с возлюбленной супругой своей, продолжить совместный полет уже за пределами земного бытия, в вечность…
* * *
За череду лет, в туман воспоминаний отодвинулась смерть дяди Миши. А во мне продолжает звучать услышанная на вечерней заре после его похорон песня журавлиной пары. И бессонными ночами, которых все чаще становится в моей жизни, чуть ли не воочию вижу я ее ритуальный танец «Прощание с родиной».
А ведь и песня, и танец те оказались и впрямь прощальными и… пророческими. Знакомая нам с дядей Мишей журавлиная пара к давнему гнезду своему в согре с тех пор больше не возвращалась. Но и молодые пары его обходили, словно боясь чего-то. Создавалось ощущение, что журавлиная пара, в которую переселились души Михаила и Валентина Железиных, унесла из этих мест нечто самое важное и заветное. Уж не любовь ли?..
С уходом дяди Миши мы с женой быстро потеряли интерес к этим местам и продали дом, оправдывая себя тем, что сами давно не молодые и трудно его содержать.
Люба тоже недолго прожила после смерти отца в родительском доме. То и дело, признавалась, мерещились в каждом углу они с матерью. Думала, что с ума сойдет. Да и дети выросли, выучились, нашли свое место в городской жизни и в сельские «пенаты» возвращаться не собирались. Посовещавшись, Люба с мужем решили переехать ближе к детям. Продали родительский дом и купили в областном центре неплохую новую двушку со всеми удобствами.
Жизнь рода Железиных продолжалась. Но это была уже другая жизнь. Без песни журавлиной верности…
1
* Михаил Свешнев, главный герой романа А. Плетнева «Шахта».