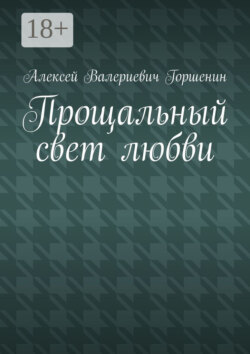Читать книгу Прощальный свет любви - - Страница 5
4
ОглавлениеРодным Михаила Валя сразу же пришлась по душе. Семейный клан ее безоговорочно принял.
Свадьбу сыграли в середине сентября, в разгар «бабьего лета». Михаил надеялся, что будет она немногочисленной и скромной. Не получилось. Одних только родственников с обеих сторон набралось несколько десятков. Да и помимо того разного люда деревенского засвидетельствовать свое почтенье набралось изрядно.
Валя сияла от счастья. Зато Михаил хмурился, глядя на это столпотворение (не любил он всякой такой шумихи) и молил бога, чтоб скорее все закончилось. А когда на третий день веселье стало затухать, облегченно вздохнул.
На этом, собственно, лирическая часть истории любви супругов Железиных и заканчивается. Дальше – проза семейной обыденности, часто трудной, а порой и совсем невеселой.
Жили молодые поначалу в родительском доме. Пятистенная изба, срубленная еще прадедом Михаила, делилась на две неравных половины. Одну, меньшую, занимала кухня с русской печью, другую, большую, – горница. К основному срубу примыкали тоже рубленные, только бревном потоньше и высотой пониже сени с кладовкой и чуланом.
Когда Михаил со старшим братом Павлом и сестрой Машей были еще маленькие, всему семейству Железиных хватало места в избе. Родители с детьми занимали горницу, а дед с бабушкой обретались на кухне с большой русской печью, которую венчала теплая лежанка.
Дети росли, взрослели. В просторной некогда горнице становилось тесно. Тогда отец Михаила с помощью сыновей переделал кладовку в небольшую комнату с выходом в сени, расширив тем самым жизненное пространство, куда и переселился с матерью.
Потом война, братья Железины на фронтах да госпиталях еще долго не попадут домой. А когда попадут, узнают, что нет больше деда с бабушкой – один за другим ушли они в мир иной.
Вернувшийся после госпиталя Михаил, уже и сестру дома не застанет. Успела Маша выскочить замуж за майора интендантской службы и отправиться кочевать вместе с ним по гарнизонам и военным городкам.
Павел, демобилизованный на полгода раньше Михаила, тоже совсем недолго оставался в холостяках. И горница на правах семейного человека отошла к нему. Старшие Железины переместились на кухню, а Михаил – в бывшую кладовку. Сюда же потом и молодую жену привел.
И на старте семейной жизни им этого вполне хватало. Однако уже через пару лет, когда у них родилось двое детей, и намечался третий, пришлось задуматься о дополнительной жилплощади. Прикидывая и так, и этак, Михаил все тверже приходил к мысли о собственном доме. Купить готовый – не по средствам, да и очень редко, кто продает, а вот построить новый…
Михаил к этому времени (началу пятидесятых годов) окончил курсы механизаторов и работал в Зарубинской МТС. Располагалась МТС неподалеку от его родного села, в котором в довоенную еще пору был создан одноименный колхоз. Большинство работников МТС здесь же, в Зарубино, и жили – кто, как Михаил под общей крышей родительского дома, кто в примаках, а кто по съемным углам. Так что проблемы с жильем были не у одного Железина. И не только в МТС. Не менее остро стояли они и в колхозе. И тогда оба хозяйства решили, объединив усилия, построить несколько двухквартирных домов для семейных работников и общежитие для одиноких.
Михаил Железин был в МТС на самом хорошем счету. Его ценили и уважали за трудолюбие и безотказность, за готовность в любой момент прийти товарищам на помощь, а еще за то, что был мастером на все руки. Поэтому никто не удивился, что в списке на получение квартир в новостройке Железин оказался в числе первых.
В начале марта пятьдесят третьего года Железины получили новую квартиру в одном из только что построенных домов. Официального новоселья не было. Политическая ситуация тому не способствовала. Только что ушел из жизни великий вождь и отец советских народов. Везде были развешаны красные флаги, обшитые траурной каймой. Скорбеть полагалось, а не радоваться. А с другой стороны, почему бы и не порадоваться собственной крыше над головой, о которой столько мечталось?
– Я думаю, что товарищ Сталин за вас тоже порадовался бы!» – убежденно сказал директор МТС, вручая новоселам ключи от квартиры. – За лучшую жизнь вы и кровь на войне проливали, за нее, родимую, и сейчас, не покладая рук, робите. Так что живите и радуйтесь! И нас своим ударным трудом радуйте! – И дал новоселам отгул для переезда.
А после переезда семейный клан Железиных, от самых старших и до совсем еще малых, собрался у новосела и все-таки устроил скромное застолье. Первый тост (не чокаясь), был, разумеется, за безвременно ушедшего Иосифа Виссарионовича, а дальше – «мелкими пташками» – за новые хоромы и тех, с чьей доброй легкой руки они появились, за здоровье присутствующих, за тех, кого нет с нами, но которых мы всегда будем помнить. Ну, и конечно, за то, чтобы нам жилось хорошо, а детям и внукам нашим – еще лучше.
После комнаты-кладовки, где ютились до сих пор Михаил с Валентиной и тремя детьми, новое жилье и впрямь казалось им хоромами. Еще бы! Большущая гостиная, перед которой горница в родительском пятистеннике просто меркла, комната поменьше, но тоже крупнее их «кладовки», просторная кухня. Плюс к тому приусадебное хозяйство с надворными постройками и несколькими сотками земли для огорода. А на улице у дома одна на двух хозяев колонка артезианской скважины.
Но едва ли не больше всего этого жилого великолепия грело Михаила еще одно обстоятельство – отдельный вход в свою половину дома, который помогал ему острее ощутить себя настоящим хозяином семейного гнезда. Не сказать, что Михаила так уж угнетало вынужденное сосуществование в стенах родовой избы трех поколений Железиных (большинство в селе испокон веков так жили), но только в новом доме он впервые почувствовал себя полноценным главой семейства – самостоятельным и независимым.
Брат завистливо вздыхал:
– Повезло тебе, Мишка, подфартило!
– А ты бы ломил, как Мишка, тогда, глядишь, и тебе подфартило б, – урезонивала его жена.
А Валя, когда они окончательно обустроились на новом месте, как-то вечером, перед сном, жарко прижимаясь к мужу, сказала:
– Теперь можно и о четвертом подумать.
– Можно, – согласился Михаил. – А то недокомплект: девок у нас две, а пацан только один. Надо поровну.
И года через полтора, как по заказу, родился у них второй сын.
Забот и хлопот в семье Железиных прибавилось. Четверо детей – не шутка. Школу, в которой Валентина Кондратьевна проработала без малого десяток лет, пришлось оставить. Вся тяжесть содержания семьи как на единственного кормильца легла на плечи Михаила Ефимовича. И он крутился как белка в колесе, пропадая зимой в мастерских МТС, готовя технику к новому сезону полевых работ, а с весны до поздней осени – в полях: то на тракторе в пахоту и посевную, то на комбайне в уборочную. А надо было находить еще время на собственный огород, скотину, без которой в деревне с большой семьей в те годы очень трудно было прокормиться. Корову Железины не держали (механизаторы по договоренности с колхозом брали молоко на ферме), а вот парочку поросят на откорм по весне брали, и полтора десятка кур имели. Так что из дома уходил Михаил с рассветом, возвращался затемно.
В МТС Михаилу Ефимовичу по работе, конечно, весьма достойно и воздавалось. За трудовые успехи свои получал он благодарности, почетные грамоты, премии, ценные подарки. А в шестьдесят первом году по итогам 6 пятилетки был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К тому времени уже не стало МТС. Но поскольку технику передали колхозам, Михаил Ефимович продолжил работать в родном Зарубино.
Впрочем, сам он больше радовался не наградам (хотя, чего греха таить, тоже очень приятно), а тому, что, несмотря на все трудности, ему удается кормить свою немалую семью и обеспечивать ей нормальную жизнь. Все в ней, а главное дети их – сыты, обуты, одеты, не бедствуют, имеют самое необходимое.
Правда, от него самого при этой бесконечной сухоте к поздней осени, когда завершались полевые работы, оставались только кости да кожа. Валентина с жалостью смотрела в воспаленные от недосыпа глаза мужа и просила:
– Ты бы как-то берег себя, Мишенька!
Хотя и самой с четырьмя детьми, да домашним хозяйством тоже приходилось несладко. Хорошо, с ребятишками серьезных проблем не было. Болели, слава богу, редко. Жили между собой дружно. Старшие опекали младших, а если что, стояли против обидчиков друг за друга горой. Дома же, как могли, помогали матери по хозяйству: и в квартире убраться, и по воду сходить, в ограде снежок почистить, а летом – грядки на огороде прополоть и полить.
Валентина Кондратьевна была от природы наделена педагогическим даром. И не только на ее уроках, которые проходили всегда живо, увлекательно, не оставляя места скуке, это проявлялось. Ее ученики и вне занятий ходили за ней по пятам, как цыплята за наседкой. О своих собственных и говорить не приходилось.
Хотя держала их она довольно строго, не сюсюкала и особо не баловала. Могла отругать, если заслуживали, или даже по мягкому месту шлепнуть. Но получалось это у нее не больно и не обидно, и принималось как нечто совершенно естественное и само собой разумеющееся.
Михаил Ефимович детей и вовсе не наказывал. Он даже голоса на них не повышал. Но его слово было законом. По два раза не повторял. В педагогике Михаил Ефимович был не силен. О том, как надо правильно воспитывать детей, понятия не имел. Он просто любил их, никого своей любовью не обделяя, но и не выделяя. Однако каждый из четверых и все вместе флюиды отцовской любви ощущали, можно сказать, на клеточном уровне. И когда Михаил Ефимович появлялся в доме, все внимание ребятишек мгновенно переключалось на него. Если, конечно, к тому времени они еще не успели отойти ко сну.
По заведенному порядку сначала – «разбор полетов». Валентина Кондратьевна рассказывала, как прошел день, кто чем отличился – в школе, дома или на улице. Михаил Ефимович, каким бы усталым ни был после работы, внимательно выслушивал, рассматривал странички дневников (старшие сын и дочь уже ходили в школу) и тетрадок с оценками. «Молодец!» – скупо хвалил за хорошие. «Срамота! – говорил, увидев изогнутую лебединую шею двойки. И коротко бросал: – Исправить!» Звучало это как не подлежащий обсуждению приказ, который обязательно выполнялся.
Редкие выходные Михаил Ефимович посвящал в основном домашнему хозяйству. Дел, пока он пропадал на работе, накапливалось много. Лишь иногда удавалось вырваться на рыбалку или за грибами. Здесь тоже без детей не обходилось – старшие увязывались за ним, младшие обиженно шмыгали носами, что их не взяли.
Так и жили дружным семейным колхозом, в одной семейной упряжке. И, казалось супругам Железиным, что такой, пусть трудной и хлопотной, но счастливой их жизни, не будет конца. Тем более что оба они находились к этой поре в самом расцвете сил. Лишь бы не было войны…