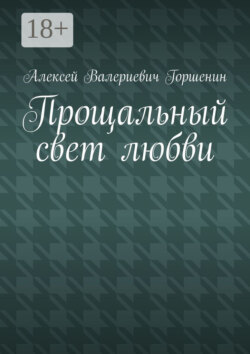Читать книгу Прощальный свет любви - - Страница 3
2
ОглавлениеМиша Железин родился и вырос в поселке Зарубино в двадцати с небольшим километрах от райцентра. Здесь и жил безвыездно до Великой Отечественной. После семилетки работал в колхозе. А в октябре 1941 года (ему как раз стукнуло девятнадцать) его призвали в действующую армию.
И оказался Миша далеко от родного дома: сначала на Дальнем Востоке, где служил прожектористом в артиллерийской дивизии, потом – в стрелковой бригаде Калининского фронта, которая вела в октябре 1942 года тяжелые бои за освобождение города Великие Луки.
Части Красной Армии несли там большие потери. В полку, где служил Железин, из двух тысяч бойцов в живых осталось лишь шестьдесят. Сам же Михаил в тех боях впервые был ранен. Но не какой-нибудь там шальной пулей. Очередь фашистского пулеметчика, засевшего под бетонным колпаком дота, в последний момент успела достать молодого солдата…
Михаилу повезло. Солдатский ватник и его защитил, и гитлеровский пулемет заставил захлебнуться. А взвод, благодаря этому смог подняться и завершить атаку. По сути, дядя Миша предвосхитил подвиг Александра Матросова. Только совершил его на свой лад и остался жив.
Героический тот поступок был отмечен первой в военной биографии Михаила Ефимовича боевой наградой – орденом Красной Звезды. Но об этом он узнал потом, в Ивановском госпитале, куда был отправлен из медсанбата на излечение. А сам орден Михаилу вручили и того позднее, когда он уже заканчивал в Калинине шестимесячные курсы младших лейтенантов.
Новоиспеченный офицер был направлен командовать взводом в одну из дивизий 3-го Прибалтийского фронта. Боевой век «ванек-взводных» в кровавой той войне был очень недолог. Гибли иной раз, даже не успев по-настоящему почувствовать себя командирами. Участь сия дядю Мишу миновала. При освобождении Витебска он хоть и был опять серьезно ранен, но остался жив. А на груди его рубиново засветился второй орден Красной Звезды.
Как-то так совпадало, что каждое ранение дяди Миши сопровождалось получением нового ордена. Бои за Днепр не стали исключением. В ходе них – еще одно ранение и третий орден – теперь «Отечественной войны» I степени, которым Михаил Ефимович Железин был награжден, как явствовало из «наградного листа», «за форсирование Днепра и взятие укрепленной обороны противника».
Последнее ранение оказалось особенно тяжелым, и война для него фактически закончилась. В конце апреля 1945 года гвардии капитан Михаил Железин, получив вторую группу инвалидности, был подчистую комиссован и вернулся в родное Зарубино.
Такова в самых общих чертах боевая биография дяди Миши, которую я узнал вовсе не от него самого. Он-то как раз об этом не любил вспоминать.
Сведения я почерпнул в архивах облвоенкомата, когда, собирал нужные материалы для книги о ветеранах-фронтовиках «Они вернулись с победой». Мыслилась она своего рода дополнением к областной Книге памяти, содержащей сведения о погибших в Великую Отечественную наших воинах-земляках. Но, в отличие от нее, посвящена была по многочисленным просьбам родственников фронтовиков, ратовавших о восстановлении справедливости уже тем, кто, пройдя дорогами войны, вернулся домой живым. Дядя Миша был как раз одним из них.
Узнав о готовящемся издании, я сообщил Любе. «Вот бы туда и о папе нашем…» – мечтательно сказала она. «Давай попробуем», – предложил я, и мы взялись за дело. Люба пересматривала семейные архивы (дяди Мишины фотографии, справки о ранениях, наградные документы, письма с фронта) я – официальные. От дяди Миши свои изыскания мы скрывали, зная, что к затее нашей он отнесется в лучшем случае прохладно.
Когда книга «Они вернулись с победой» вышла, ее торжественно вручали Михаилу Ефимовичу в районном ДК, несказанно удивив и растрогав старика. Из тех, кто, как и он, пройдя войну, уцелел и вернулся, в живых ко времени выхода книги, уже никого не осталось. И это еще больше усиливало значимость момента.
Не привыкший к подобному вниманию, дядя Миша растерянно топтался на клубной сцене, принимая из рук чиновников районной администрации персональный экземпляр книги «Они вернулись с победой», пакеты с подарками, цветы, и глаза его предательски блестели. А когда ему передали для ответного слова микрофон, дядя Миша и вовсе так стушевался, что закашлялся прямо в него. Было видно, что этой трубочки с дырчатым набалдашником, разносившей его кашель по всему залу, он боится сейчас ничуть не меньше той фашистской амбразуры. Но дядя Миша сумел и здесь себя побороть, собраться с духом и заговорил срывающимся голосом:
– Земляки!.. Родненькие мои… Нас много тогда сибиряков на фронт ушло. Из нашего Зарубино – семеро. Назад только мало вернулось. И те – раненые, калеченые, болезные. Да и потом… Война хоть и кончилась, а продолжала одного за другим из жизни выдергивать. А ноне я и вовсе из тех бойцов один на весь район живым остался. И за всех сказать хочу: «Спасибо, родненькие, что не забываете нас! Не зря, стал-быть, мы воевали…
Дядя Миша, замолчал, не в силах продолжать дальше, махнул рукой и ею же, тыльной стороной ладони промокнул вспотевший лоб и набежавшие слезы…
Собирая сведения о боевом пути Михаила Железина для книги «Они вернулись с победой», я загорелся идеей написать нечто большее скупой документальной справки. Так параллельно родился у меня очерк, дяде Мише посвященный. Очерк получился, как мне казалось, живой, красочный и, как выразился один мой коллега-журналист, в меру правдивый. Его охотно опубликовала областная газета. Очерк украшал фотопортрет дяди Миши, сделанный в редакционной фотолаборатории на основе одной из его фронтовых фотографий.
Как только очерк был напечатан, я подарил его герою несколько экземпляров газеты. Нацепив на кончик носа очки, дядя Миша долго водил им по газетным строкам. Так долго, что, казалось, пробовал на вкус, цвет, запах каждую букву. Я уже изрядно устал от ожидания, когда он, наконец, оторвался от газеты.
Я с нетерпением воззрился на него. Дядя Миша неторопливо и аккуратно сложил газету, молча пожевал губами и задумчиво посмотрел поверх моей головы.
– Ну, что молчишь-то, старый, человек ждет? – подтолкнула его Валентина Кондратьевна.
– Дак… чего же… – очнулся дядя Миша. – Ладно написано. Слово к слову. Спасибо, Серега, уважил старика… – Он снова замолк, что-то прокручивая в своем мозгу, и через пару мгновений продолжил: – А только вот читаю и вроде как узнаю себя и не узнаю. С улицы – один, солнцем весь залитый, а изнутри, за дверью входной, – другой. Только после солнца, в сумраке, трудно разглядеть какой…
– Ой, да не слушай его, Сережа! – рассердилась Валентина Кондратьевна. – Буровит, что попало. Замечательно написано!
– Так и я о том же самом! – поспешно воскликнул дядя Миша.
А я, уязвленный его словами, в душе не мог с ним не согласиться: видно, и правда не сумел «потемки» его боевой души, как следует, высветить. Солнцем, оказалось, облить проще. И подумалось тогда, что правдивее и лучше самого дяди Миши рассказать о его фронтовых буднях никто не сможет. Особенно подрастающим поколениям.
И однажды, держа это в уме и откликаясь на просьбу классного руководителя моего внука-шестиклассника устроить встречу с настоящим участником Великой Отечественной войны (не секрет, что чем дальше от нее, тем больше объявляется участников самозваных), я обратился к дяде Мише с предложением пообщаться со школьниками, рассказать им о войне.
– Нет-нет-нет!.. – затряс он головой. – Пусть лучше книжки про войну читают.
– Книжки – одно, а живой участник – другое.
– Ну, что я могу детворе рассказать? – продолжал сопротивляться дядя Миша. – Ничего ж такого не сделал?
– Да, конечно, а три ордена тебе просто так дали! – напирал я.
– Мне одному, что ли, давали? Тогда у многих грудь в орденах – и по более моего – была, – не сдавался дядя Миша.
– Расскажешь, как амбразуру вражескую закрыл, – напомнил я.
– Ну, закрыл. Чего особенного-то? – пожал плечами дядя Миша.
– Ничего себе – особенного! – вознегодовал я. – Матросов за это Героя получил.
– Так Матросов на амбразуру лег, – возразил дядя Миша. – Сгоряча, поди-ка. Не лег бы – наверное, выжил, но зато без Героя б точно остался. А я амбразуру собой не закрывал. Эти доты по-всякому глушили. Бывало, и телогрейки хватало его заткнуть.
– Телогрейки? – удивился я.
– Ну, да, обычного армейского ватника. Мы в такой стеганке с поздней осени и почитай до весны хаживали. Вещь удобная. Особенно в бою.
– И как вы ею ухитрялись пулемет глушить?
– Тут главное суметь подползти к доту так, чтобы хоть на самое короткое время вне сектора обстрела оказаться, в мертвой зоне. А уж здесь прямо на земле, не подымаясь, ужом извиваясь, разоблокаешься, телогреечку с себя стаскиваешь, скатываешь, потом приподнимаешься со скаткой, делаешь резкий бросок к доту и, прижавшись к его бетонной стеночке подбираешься сбоку к амбразуре. Теперь главное попасть скаткой прямо в щель, чтобы закрыть пулеметчику обзор. Пока он там вошкается, разбираясь, что да как, взвод успеет дело довершить. Так что ежели с умом и сноровкой, то дырку с пулеметом можно и фуфайкой заткнуть. Я знал мужиков, у которых на счету не одна такая заткнутая «дырка» была. Старшины, правда, сильно ругались за порчу казенного имущества.
– Здорово! – восхитился я.
– Здорово, если после этого цел невредим. А у меня ни сноровки, ни опыта тогда еще не было. Скатка не совсем точно на амбразуру легла. Я, было, потянулся ее поправлять – вот фриц заметил и успел меня очередью зацепить. Правда, тут же и захлебнулся. Секунды на все про все хватило. Ну, да на войне всего не предусмотришь…
– Вот об этом и расскажешь!
– Кому? Детворе? Им про геройство надо. А тут какое геройство? Обычное солдатское дело. Может, прикажешь рассказать им еще и о том, как в полный рост окапывались да блиндажи строили. Сколько этих траншей да нор за войну нарыли – не сосчитать! Или рассказать, как по голому полю в атаку бежали, ровно зайцы, петляя, чтоб под пулю не угодить? Кому это интересно? Война, брат, дело грязное и скушное…
В общем, не сумел я тогда уговорить дядю Мишу пообщаться со школьниками.
«И не старайтесь!» – сказала Люба. – Уж сколько я его к себе в школу зазывала – бесполезно!»
Да и в разговорах наших к военной поре его жизни дядя Миша больше не возвращался. Я и не настаивал, поняв, что тема эта для посторонних закрыта. Лишь однажды, придя к нему поздравить с Днем Победы, не удержался, спросил:
– Скажи, дядя Миша, а что для тебя там, на войне, важнее всего было? Ну, понятно, – уцелеть. А еще?
Дядя Миша, нацелившийся вилкой на соленый груздок в тарелке, чтобы закусить им только что опрокинутую рюмку, так и застыл, не ожидая, видимо, моего вопроса.
– Да кто ж его знает… – неуверенно пробормотал он, осторожно кладя вилку на стол. – Тогда об этом некогда было думать. Главное – приказ выполнить, в бою не оплошать. Ну и, конечно, верно говоришь, уцелеть. Когда рядовым был – самому. Командиром стал – еще и бойцов сберечь. А пуще всего хотелось скорее войну кончить и назад, в Зарубино!
Дядя Миша задумался, забыв про так и оставшийся лежать в тарелке груздь.
– Закусывай, Мишаня, закусывай, а то окосеешь! – вывела мужа из задумчивого оцепенения тетя Валя и сама, проткнув груздь, поднесла вилку к его губам.
Дядя Миша послушно принял гриб в свои уста и заработал челюстями.
– Я ведь еще совсем зеленым был, когда призвали, – сказал он, расправившись с груздем. – Ничего не успел. В колхозе, как говорится, быкам хвосты крутил, профессии никакой, гоняли по разным работам: пойди туда, сделай то!.. – Дядя Миша осторожно оглянулся на отошедшую к противоположной стене залы тетю Валю, потом наклонился к моему уху и, озорно сверкнув глазами, прошептал: – Даже девок-то еще не щупал. Зато в окопах они частенько блазнились. А оттого еще больше домой хотелось. Особенно после ранения на Днепре, когда война уже на исход пошла. Все мечтал в госпитале: вот вернусь, выучусь на кого-нибудь, женюсь… К концу войны мне двадцать четвертый год шел. Самая пора о том думать. Сам в большой семье вырос, и свою такую же хотел завести.
– Ну, а пока суть да дело, замутил бы там, в госпитале, с какой-нибудь медсестричкой, – весело подмигнул я дяде Мише.
– Не, – сразу посерьезнел он. – Я так не могу. Своей на всю жизнь я среди них не увидел. А на чужое или даже ничейное зариться не привык.