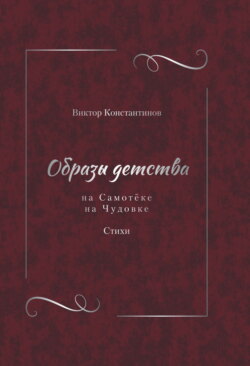Читать книгу Образы детства: На Самотёке. На Чудовке. Стихи - - Страница 7
Детство на Самотёке
Как тогда жили мы и другие люди
ОглавлениеУмывшись, вся семья вытиралась одним полотенцем. Жили без горячей воды. В ванной комнате стояла ванна и висела газовая колонка, но почему-то её использовали только для стирки. Мыться ходили в баню.
Мальчиков часто стригли «под машинку» – наголо. Приятно было проводить ладонью по голове, как по щётке.
В день рождения, поздравляя, слегка дергали за уши столько раз, сколько исполнилось лет.
Папа мне на день рожденья подарил большого белого фаянсового зайца с красной морковкой в лапах и сказал:
– Расти большой да вумный!
Потом заяц стоял на диванной полке.
Еду готовили на общей кухне, а ели в комнате.
На завтрак яйцо, манную кашу, хлеб с маслом… В обед – обязательно, каждый день, первое, второе и третье. Для первого у меня была пластмассовая детская миска. Мы с сестрой первое очень не любили, мама заставляла есть, а любили третье – кисель или компот из сухофруктов с черносливом, абрикосами, грушами, изюмом. Всё это и без компота, в сухом виде иногда удавалось выпросить.
– Щи да каша – пища наша, – приговаривал папа.
Ели всегда вместе. Часто мама не могла кого-нибудь заигравшегося, зачитавшегося дозваться к столу и предупреждала: – Семеро одного не ждут!
Или: – Для глухих десять обеден не служат.
– Мам мне половинку.
– Ты что – половинкин сын? – спрашивал папа.
И добавлял в таких случаях:
– Наливай полную, чтоб жена была не губастая!
То же самое он говорил, когда наливали рюмки.
Если я или сестра отказывались есть не вкусное, какую-нибудь кашу, щи, мама сердилась:
– Ешь, что дают!
Папа добавлял:
– Губы толще – так в брюхе тоньше!
И:
– Что губы надула?
Если наоборот, кто-то никак не насытится и просит раз и два добавки мама смеётся:
– Едун напал. Не жалко, ешь до укаки!
Нередко покупали мясо кроликов. Я просил, и мне всегда давали кусочек с косточкой в виде вилки, точней в виде буквы V. Вряд ли эту косточку связывали с моим именем, но мне она почему-то нравилась.
Мы жили не богато, скромно, «не шиковали», но денег не занимали, необходимое всегда было, «жили по средствам». «Вкусненькое» нам папа покупал с получки, себе – в рыбном магазине несколько тонких ломтиков сёмги.
Мама лучшее отдавала детям, экономя на себе. Масло на хлеб намазывала так тонко, что была видна структура хлеба на срезе, а то и намазывала масло, а потом соскабливала. На ломтике получался узор из белых пустот, заполненных маслом и разделяющих их стенок.
Я любил белый хлеб кирпичиком, таким же, как чёрный, хотя он был и не высшего сорта. Ещё были батоны и иногда «плетёное» хало.
Когда в доме кончался сахар или ещё какой-нибудь продукт, мама в шутку говорила: – Дожили до куки, нет ни хлеба, ни муки.
Если роняли на пол конфету, печенье…: – Не повалявши, не поешь. А папа: – Росомаха!
Конфеты были: Золотой ключик, Снежок, Раковая шейка, леденцы Монпансье в металлической коробке. В кульках без обёртки – «подушечки» розовые и белые.
Если отказывались брать подарок, мама:
– Дают – бери, а бьют – беги.
Папа:
– Нечего хвост подымать!
Когда я или Нина просили купить что-то такое, что родители не могли себе позволить, мама объясняла, приговаривая:
– По одёжке протягивай ножки.
Мы с сестрой и капризничали, и упрямились.
Папа: – Вожжа под хвост попала.
Мама: – Хватит надо мной мудровать!
Что творил я в то время, честно, не помню. Спать не хотел ложиться. А Нина совсем маленькой ранней весной додумалась встать в заячьей шубе под водосточную трубу. Эта шуба потом перешла ко мне.
Если говорили или делали что-то несуразное, спрашивали: – Тебе что – моча в голову ударила?
Или: – Не скажи в бане – шайками закидают.
Я, всё воспринимавший буквально, представлял, как в пару голые дяди кидают друг в друга шайки.
Папа читал мне книжку «Как муравьишка домой спешил». Солнце уже склонялось низко… Я очень переживал за муравьишку. Ещё была сказка про лягушку-путешественницу.
В каком-то рассказе вечерний крик то ли перепёлки, то ли выпи «фьють-пери» переводился на человеческий язык как «спать пора!». После этого рассказа, когда приходило время ложиться спать, папа мне сигналил: – «Фьють-пери, фьють-пери! Спать пора!»
Читали мне замечательную познавательную книжку для детей с картинками «Алёша-Почемучка». Он всех спрашивал – почему то, почему это… – про всё на свете. Взрослые Алёше рассказывали и объясняли. Картинки показывали. Вскоре и меня стали называть Почемучкой.
Папа покупал разные развивающие игрушки. Набор кубиков с деталями шести разных картинок на боках, их нужно было составлять. Ещё то, что теперь называют пазлами, но более простые, из крупных деталей. Ещё что-то вроде картонного лото, в котором вместо цифр были картинки зверей, птиц и рыб. Мне почему-то понравился и запомнился розовый скворец.
Старшему брату Валерику папа подарил конструктор из разных металлических пластинок, уголков, колёсиков и других деталей для сборки с помощью винтов и гаек трактора, грузовика, крана… Не все винты подходили к каждой гайке, и каждая гайка не подходила ко всем винтам, надо было подбирать. Несколько уголков от этого конструктора у меня ещё сохранились.
По радио часто звучала песня для подростков:
Если хочешь быть здоров, закаляйся.
Позабудь про докторов, обливайся…
Валерик, закалялся, обтирался мокрым полотенцем, делал зарядку, старался позабыть про докторов, но не мог – он был «сердечник», с пороком сердца… Один раз, мне было 3 или 4 года, мама взяла меня с собой в больницу к Валерику. Больница была далеко, в Текстильщиках. Долго ехали в автобусе, окно было заморожено. Мама разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей рядом. Я не понимал, о чём они говорят, но почему-то запомнилось повторявшееся слово «хлопотать»: – …хлопотала… надо хлопотать… хлопотать…
Помню только картинку – мы с мамой стоим в сквере больницы и машем Валерику в окно 3-го этажа.
На обратном пути мама разговаривала в автобусе с другой женщиной о болезнях своих детей, и та сказала, что детям, лежащим в больнице, покупают заводные танки – они могут ездить по разглаженной простыне.
Из больницы Валерик вернулся со своим танком. Танк жужжал и сыпал искрами из пулемёта. Я подставлял палец под искры, они не обжигали. Говорили – это холодный огонь.
В дождливую погоду все мужчины и дети надевали чёрные галоши, красные внутри. Женщины – боты, а зимой многие девочки и женщины вместо варежек грели руки в муфтах на верёвочках.
В холодную погоду все носили пальто, зимние и «демисезонные», никаких тёплых курток не было. Мужчины зимой все в шапках-ушанках, в другое время – интеллигенция, в основном, в шляпах, люди попроще и подростки в кепках, люди искусства с претензией в беретах.
Магазины в Москве были наполнены продуктами, но, вероятно, кроме муки. Только денег у людей было мало и магазинов мало, за всем приходилось стоять в очередях.
Муку продавали по три килограмма на человека перед праздниками – все пекли пироги и свой хлеб. За мукой стояли уже не очереди, а толкающиеся толпы. Очередь занимали с вечера или с ночи, писали химическим карандашом номерки на ладонях.
Один раз мама взяла меня совсем маленького в качестве «человека». На задворках магазина между кинотеатром Экспресс и Центральным рынком муку выдавали через маленькое квадратное отверстие, вокруг толпа, шум, гам. Мне тоже написали номер синим химическим карандашом. Я держал его зажав ладонь, боялся стереть, смазать, потерять.
Когда очередь подошла, мама сунула меня в окошко в подтверждение наличия «человека».
Брат и сестра готовили уроки на общем столе, другого не было. Подстилали газету, чтобы не пачкать клеёнку чернилами – писали перьевыми ручками, макая то и дело в белую фарфоровую чернильницу-непроливашку. Чернила часто капали с перьев и ставили кляксы в тетрадях и на чернильнице. Белоснежная непроливашка через какое-то время становилась привычно чумазой грязнулей. Иногда её оттирали, и на неё, чистую, неприятно было смотреть, она казалась лысой. А кто-то сказал – босой.
Кляксы в тетрадях накрывали промокашками, от чего они часто увеличивались, превращаясь из круглых в произвольные фигуры.
У нас в семье, если кто-то делал уроки, остальные не мешали, не шумели, даже не разговаривали. Этот закон внимательности к другим, уважение читающего, думающего, спящего… стали привычкой, сохранившейся навсегда.
Чтобы занять меня, мне давали какую-нибудь книгу с картинками. Например, книгу стихов Маяковского с фотографиями красноармейцев в белёсых гимнастёрках, в строю, на крышах вагонов… На полях нарисованные маленькие чёрные человечки с винтовками, бегали туда-сюда, как муравьи.
Рисунки в тогдашних детских книжках мне нравятся и сейчас – простодушные, чёрно-белые, тёплые, добрые… У нас была большая толстая книга Андерсена со сказочным домом под высокой изогнутой крышей на обложке. Внутри был рисунок – на окне из маленьких квадратных стёкол стоит горшок с вьющимся горохом. Оттуда, наверно, моя привязанность к цветам на подоконниках.
У нас был установлен разумный распорядок дня. Валерик даже написал на листке расписание – когда вставать, когда обедать, делать уроки, гулять, читать, ложиться спать (мне в девять, старшим в десять).
В нашей семье сохранялись табу, правила и приметы, привезённые родителями из деревни, из глубин крестьянских поколений.
В гостях никогда не ели, ни пили по первому приглашению. Сначала надо было обязательно отказываться, медлить. Хапать не принято. Повзрослев, я долго не мог отвыкнуть от привычки церемониться даже с друзьями.
Вставать утром надо с правой ноги, иначе – «не с той ноги встал», с плохим настроением. Надо же, так хранилось понимание левого и правого, добра и зла.
Дома нельзя свистеть, денег не будет.
Нельзя спать, когда закатывается солнышко – голова заболит.
Нельзя много смеяться, после смеха всегда слёзы. «Смешинка в рот попала?». «Смотри, как бы после не заплакать». «Смех без причины – признак дурачины». Я смеялся, по выражению папы, до упада. А мама говорила:
– Тебе покажи пальчик – засмеёшься!
У меня в смехе выражалась и выражается радость от необычного слова, действия. Бывало это не понимали и обижались, думая, что смеюсь над ними.
Нельзя хвастать, «Хвастливое слово всегда гнило».
Нельзя класть на стол ложку выемкой вверх, «Ложка есть просит».
Наденешь майку или чулок наизнанку – будешь бит.
Что-то потерялось – это шишига украла. «Шишига-Шишига, поиграла и отдай!»
Из бани пришли – «С лёгким паром!».
Мама надевает пальто.
– Мам, ты куда идёшь?
Мама очень сердилась на такие вопросы:
– Заку дакал!.. За кудыкину гору!
Нельзя спрашивать, куда идёшь, а то не повезёт.
Чтобы повезло человеку, например, на экзамене, надо его в это время ругать.
Отправляясь на экзамен, клали под пятку пятак. В те времена школьники сдавали экзамены каждый год.
Раньше эти предосторожности называли оберегами, теперь – психозащитой.
Когда я допекал старшего брата, он говорил: – Отзынь! Или давал лёгкий щелбан. А то и предупреждал: – Дам по шеям!
Или вправду слегка давал ребром ладони по шее.
В семье возникли разговоры о том, что Валерик будет показывать домашний театр. Он тайком резал ножницами бумагу, картон, что-то клеил. Я не знал, что такое театр, и ждал с нетерпением.
И вот через несколько дней вечером «театр» состоялся. Зрители – я, Нина, мама и папа сели в два ряда на стулья.
Лампа под абажуром погасла. Сцену освящала настольная лампа, и действие началось. Валерик рассказывал и показывал сказку про хитрую лису.
Старик крестьянин поехал на санях через лес ловить рыбу. Лошадь бежала быстро, на фоне замелькавших елок, усыпанных снегом. Сани со стариком действительно двигались, ехали по дороге!..
Приехал старик, остановился и стал ловить рыбу, и началось: – Ловись, рыбка, большая и маленькая… Старик возвращался с рыбой домой, и опять замелькали ёлки, только в другую сторону. Впечатление движения лошадки с санями было поразительным.
Потом, появились лиса, старуха, волк…
Как только сказка кончилась, я сразу стал выяснять, почему сани казались едущими, лиса и волк бегущими.
Валерик показал длинную полосу бумаги с нарисованными деревьями и как он её тянул за стоящими санями. Эффект обманчивого движения был удивителен! Я сам тянул полосу с ёлками – лошадь бежала, переставал тянуть – лошадь останавливалась.
Тогда я думал, что Валерик всё рисовал сам, но, догадываюсь, это папа купил напечатанный полуфабрикат. Валерик только вырезал и клеил.