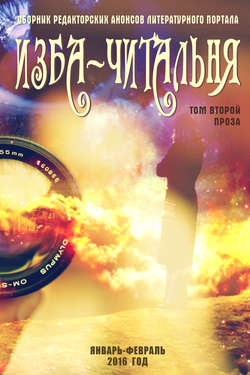Читать книгу Сборник редакторских анонсов литературного портала Изба-читальня. Том второй. Проза - - Страница 22
Иланка
Ирина Бауэр Труба Фрица – Другое. 31.08.2015
ОглавлениеУ Фрица в голове обитала труба. Когда приходили на землю осенние ветры, когда первозимок вьюжил, вытягивая жилы из небесного рая, сквозняк в трубе стоял неимоверный. Фрицу казалось, что тысяча голосов поселились в его голове и живут своей жизнью, самодостаточны вне зависимости от держателя квартиры: переговариваются друг с другом, телефон не замолкает ни на минуту, голоса ходят друг к другу в гости, напиваясь до отвала даровой водочкой, машины выруливают на зернистом асфальте, отдавая в висок болью, клянчат, скулят, по-собачьи лепечут, выгибая спины, голоса бунтуют, предают, защищают, словом, бредят, и все это обилие страстей почему-то прописалось на территории трубы Фрица. Шуршащее, орущее, мычащее братство одного единого, вобравшего в себя плоть пространства звука. И тогда Фрица захлестывали воспоминания. Цветной лоскут, горсть соли на дощатом столе, пьяный дьяк, отпевавший мать, крал за алтарем вино между приступами слёз отца, отречение Фрица, радость родственников, герань на столе.
Жизнь в коллективе Фрица не устраивала, он презирал всякого рода стадность, содрогаясь от необходимости жить в тесном сгустке голосов. Подвижность воздуха внутри трубы бесила его до одурения, ведь Фриц стремился к статичности, поэтапному устроительству жизни в трубе, аккуратности при выборе знакомых и недопущения к трубному миру родственников, упаси Бог, и, конечно, всякого рода приятелей. Строго памятуя, что дружба – бремя, всякий раз, когда появлялся на пути Фрица друг, требовалась жертва, от Фрица пытались отломить краюху пожирней. Дружба вещь обременительная, утомительная и потому – никакой дружбы.
Фриц обожал до слез ярко-красный зонт, зонт, под которым он жил в гармонии с внешним миром, который терся о его, Фрица, ноги. Но голосá, подлые голосá с новой силой наваливались, скрутив по рукам и ногам, обезоруживая разноголосицей, тормошили Фрица, не давая ему уснуть. О, Дуда! Если бы не ты, Дуда, кто знает, в какие дебри ужаса завели Фрица голоса. Дуда приходила к нему вначале редко, случайно, затем все чаще и чаще. А ведь каких трудов стоило Дуде забраться Фрицу на плечи, а уж оказаться на высоте, там, на холке тени, границе между тем и этим миром, на высоте, где маячит знакомый зонт. Тем более что в январе земля слабеет, на высоте остаться непросто, тень Фрица сжималась, становясь кукольной, но место упруго и властно держит за руки хозяина, а зонт не сдвинешь. Что пришлось по сердцу Дуде? Разве женщина расскажет всю правду до конца мужчине, но мне, соглядатаю и фискалу в одном лице, мне, осеннему ветру, знать приходилось многое. Наверняка Дуде нравилась стабильность жизненного пространства Фрица, та уверенность, с которой он никогда не расставался при всей его ноюще-плачущей физиономии. Женщина пообвыкла, шмыг запросто под зонт, все реже стала она покидать насиженное место, крапленое пространство, так много съевшее кусков от воображения наивной Дуды.
– Грудастая Дуда, сахарная тянучка! Счастливец тот, кому выпадет счастье прижаться губами к белой, пахнущей корицей коже, подбородку, сытому, отяжелевшему белому телу, горячим дыханием оберечь нежную Дуду, целовать пупок, величиной с маслину, – лепетал Фриц во сне.
А когда подолгу наблюдал за Дудой, испарина выступала на коленях, словно соль сквозь уставшую гимнастерку, а сердце с разбега уходило в пятки, одержимое единым припадком: Фриц хотел эту женщину. Сразу и всю! Фриц знал наверняка: стóит ему пожелать Дуду, невидимый Бес, давний недруг его зонта, встанет в тень пирамиды и примется наблюдать за Фрицем, возьмет в плен его, Фрица, сознание. Он хотел Дуду не так, как вчера, но сильней, чем сегодня. Время, в том числе и наши желания, имеет изнанку, стертая облицовка по волокну. Ну, не растут пальмы в Сибири, а хочется! В бедламе для Фрица находился душок подлости и предательства, причем настолько весомый, что Фриц не мог совладать со своими желаниями, не находя покоя. В теле у Фрица обитала вялость, в каждом суставе, в каждой клетке, в каждой волосинке. Но когда прижимал он Дуду, именно эту женщину, когда целовал ее влажные губы, к которым пристал волос медного цвета, выбившийся из-под заколки, во рту, вязком от слюны, метался незримый шарик, и потому Фрицу нужно непременно попасть в лузу, иначе нельзя, для того она, луза, и сооружена, чтобы припереть к стене игрока.
– Извращенец, – смеялась Дуда, впиваясь болезненными поцелуями в мясистый, потный нос Фрица.
Однако налетали ветры, свидание комкалось, сквозняк, враг человечества, усиливался в трубе, и тогда Дуда начинала тихонько плакать, припадая плечом к ворсистой обивке шезлонга, устав от слез, сворачивалась волчком и засыпала. До лучших времен, Фриц! Но чаще она читала, причем делала это своеобразно. Вначале, удовлетворившись эпилогом, затем нехотя, с опаской, начинала с первой страницы, скука торжествовала над любопытством, напускная серьезность, уступала место флирту с книгой, а затем уже лень, мягко, мягко изворачиваясь, вставала на караул у изголовья. Всем видом Дуда показывала облюбованную жертвенность, вот, дескать, трачу время на сладенький романчик, целýю Фрица, сижу в шезлонге, слушая изо дня в день ветер, застывший в кронах деревьев, идут ливни, не прячусь под зонт, пренебрегая временем и здоровьем.
Частенько Дуда, взяв широкую белую скатерть, спускалась в долину, поближе к лесу, зазывала, таким образом, летучих мышей в гости. До утра компания пила вино Фрица, мыши вели себя по-хамски: истребив медовые яблоки, громко хрюкали, захлебываясь весельем, кружили Дуду, посадив на крылья, плевали сверху на Фрица, бросая на землю крупные сколы града, затем бесконечно таскались в туалет, аукали, как заведенные, забравшись в трубу. Казалось, что мучить Фрица (мыши не давали и ему толком выспаться) является главной целью их визита. Наутро, когда усталость, соседка бессонной ночи, трепала холки кустам сирени, мыши, не прощаясь, исчезали, и Дуда, присмирев, курила принесенные липучками (так Фриц называл мышей) сигареты, нехотя болтая босой ногой перед лицом Фрица.
– Подлые потаскушки, – ругал мышей Фриц.
Табачный дым, попадавший в отверстие трубы, доставлял настоящие мучения, голова шла кругом, во рту вязкость горьковатой слюны, тоска сжимала грудь. Препаскуднейшее ощущение! Дуда, казалось, не замечала метаний Фрица, лежала себе, расслабленно уставившись в небо, впав в оцепенение; чувствовалось, она устала от праздника, сладко потягиваясь, глядела на Фрица и не видела, широко разметав белые ноги.
«Лесбиянки чертовы, – клял мышей Фриц, – в следующий раз изничтожу липучек, развратниц».
Но наступал новый день, Фриц успокаивался, разглядывая с высоты людей, которые толклись у домов, сидели в палисадниках, бегали, как заведенные машины, товарные вагоны, слепые инстинкты требовали пищи, геологи отправлялись в экспедиции, словом, все как всегда укладывалось в схемы и коды жизни. Так бы и жили себе Фриц и Дуда, если бы не письмо, злосчастная бумажка, перед всесилием которой Фриц чувствовал себя фиговым листком, способная уничтожить человеческий мир и надежды, разом быстро и бесшумно.
– Это катастрофа, Дуда, – у Фрица дрожали губы.
– Ветры утихли. Скоро родится новый месяц, – пыталась обнадежить женщина.
– Нужно срочно возвращаться на землю и закрасить дороги, перерисовать мир, изменив его, как можно быстрей, – настаивал Фриц. – Посмотри, Дуда, прежде я не замечал, как много на земле канав, оврагов, как обильно исполосовали дороги, пахнущую сырцом, землю.
Все следующее утро Дуда и Фриц красили, перекрашивали, поменяв местами деревья, шоссе и трассы, откатили прочь камень, границу мирозданья, вправо, галочьи гнезда таскали с места на место, позже, растерявшись, пересыпали гнездами травы, самые крупные водрузили на сосны и ели. Помогло? Бумажка подкралась, неведомая и сильная в незнании своем, жадно вгрызалось уведомление, создавая преграды на пути двоих. Там, на земле, незнакомый ангел, самозванный герой, кроил нимбы из терновника и пчел, гудели змеиные свадьбы, забытый шаман бил в бубен и оставалось либо закрыть глаза, либо потерять себя.
На сороковой день от получения бумаги прикатил дядя. Весело помахал рукой в знак приветствия; там, на земле, дядя казался ростом с муравья, Фриц в первую минуту, увидев дядю, устыдился прежних страхов, что же касается дяди, сила родственной крови была настолько сильна, что переборола первое замешательство. Гость бодро принялся карабкаться на недосягаемую, на первый взгляд, высоту. Стабильность шезлонга Фрица дядя учуял сразу, как чует гончая запах взбесившейся лисы. Нежно вгрызаясь в пространство, дядя всасывал запахи родственника, ворковал, вздрагивая огромным избытком живота. На высоте жить так сладко, по разумению дяди здесь мало ответственности и много изобилия! Не порядок, нельзя для одного Фрица так стараться небу! Радость была односторонней, бурной и оттого недолгой. Искоса рассматривая племянника, сидевшего в шезлонге, дядя настырно прицыкивал языком.
– Н-да, – прервал он молчание. – Меня предупреждали, что вид твой, прямо скажем, не того, но чтобы до такой степени, это умудриться нужно! – положил начало знакомства с племянником малознакомый родственник.
Фриц, насупившись, молчал, строя недружелюбную мину, всем видом говорил он, что чужероден ему незнакомый толстый человек, сидевший у ног, человек в малиновом пальто с черной папкой, более того – противен. Но такие пустяки мало заботили дядю, как и холодный прием племянника, уродство которого не смогло поколебать дядиных принципов, выработанных под действием времени и желаний. Дядя устроился поудобней, растолкав свои вещи как придется, утирал с полнокровного лица пот, причем делал это неловко, то и дело размахивая носовым платком, и вскоре стал накрапывать дождь, сплошь и рядом из капель дядиного пота, соленый и едучий.
– Жарковато здесь у вас, – освоился дядя и снял пальто. – А у тебя, племянник, чисто, красиво, прямо рай земной. И шезлонг премиленький, и женщина твоя, ну прямо, как ее, Клеопатра.
Дядя изобразил на лице, по возможности, жгучую улыбку бывалого сердцееда, высморкался под ноги, и тут же принялся посылать Дуде один за другим воздушные поцелуи.
– Фу, он слюнявит губы, – морщилась Дуда.
Фриц не слушал ее, давно заприметил он павиана, чья красная, извините, задница мелькала у подножия тени его шезлонга, более того, павиан истреблял яблоки, тут же гадил, при этом поглядывал на Фрица, издавая угрожающие звуки. Фриц с раздражением поглядывал на дядю, сообразив, что лишь этот толстяк, обжора и неряха, мог так бесцеремонно поступить, привести животное, посадив на цепь, мучить его жаждой.
– Ничего, ничего страшного, – сообщил дядя, – во всяком случае, пусть посидит внизу. На кой мне павиан, тем более такой прожорливый.
Однако Фриц настаивал, и дядя был вынужден кормить павиана, давать ему воду, хотя ближе чем на пять-шесть шагов к животному не приближался. Павиан, завидев дядю, смотрел на хозяина внимательным взглядом, смотрел грустно, при этом сжимал в лапе помидор, и дядя, всякий раз приблизившись к своему спутнику, бледнел, сжимался, усыхая на глазах (сытая прежняя гладкость покидала его), и поспешно подсовывал миску, бросаясь наутек. Между рейдами на землю и обратно дядя занимался разнообразнейшими делами, а именно: изобразив жгучую улыбку заядлого сердцееда, эдакого свойского парня-любовничка, посылал Дуде жгучие поцелуи. Дядина забава – недоеная блоха, скачет от Дуды и обратно, дядя пожирал ее взглядом, постанывал, он, даже изрядно утомившись от бесполезных кривляний, искал иные виды развлечений. Открывал тщательно охраняемый портфель, сетуя, что прежде за сохранность вещей отвечал павиан, а нынче не на кого положиться, тем более в гостях, доставал яйцо, сваренное вкрутую, и незамедлительно съедал его вместе со скорлупой. Покончив с завтраком, дядя снимал носок с правой ноги, долго и вдумчиво его рассматривал. Затем ковырял пальцем сухую пятку, чистил между пальцами грязь, обтирая о брюки остатки пота, подносил к носу измазанные пальцы, обнюхивая, кряхтел. Покончив к вечеру с туалетом, ни слова больше, ложился, где сидел, и вскоре его храп проникал во все уголки пространства, захваченного благодаря отважным вылазкам разведчика, часами наблюдавшего из дупла дерева за изменяющимся цветом шезлонга Фрица. Храп проникал эхом в трубу, сверлил мозг, Фриц не мог в такие дни сдерживаться, пинал дядю ногами, проклиная спящего последними словами.
– Чертов дядя! – шумел Фриц. – Откуда подлец знал ко мне дорогу?
– Дай ему денег, – предлагала Дуда.
– Свинья, – стонал Фриц, закрывая ладонями уши. – Это конец.
К ночи стало свежо, похолодало основательно, большие звезды, словно медные пуговицы, освещали зонт Фрица безразличием. С каждой минутой густели тени, вторя уснувшим бабочкам, Дуда мечтала о минуте отдыха, о забвении прошедшего дня, мечтала расправить затекшую спину, выгнув ее наподобие клейкого зеленого листа и еще о том, что Фриц был так одинок, он ведь вынужден оберегать трубу. Тогда взгляд ее становился влажным, блуждал среди светящихся на болотах гнилушек, сердце Фрица становилось податливым, теряя прежнюю возвышенность, более того, он становился ласковым, покладистым, Дуда, смешав ночь с днем, получала, наконец, согласие, таким образом, под ногами Дуды появлялась опора. Оттолкнувшись, против всех законов физики, Дуда, растворяясь в шумах и запахах, из ладоней Фрица попала на грудь, и дальше, мягко взлетев, уперлась тугими пятками в плечи. Затем Дуда впрыгнула в трубу и тихонько побрела извилистыми коридорами. Фриц от удовольствия смежил веки. Его пальцы дрожали, набегали волны удовольствия, горьковатая истома лишь усиливала приступы счастья. Дуда проявляла небывалое упрямство и настойчивость. Она все шла и шла вперед, труба изнутри сияла, и Дуда, не утерпев, прикоснулась губами к трубе, оглаживала в удивлении окружавшее изнутри золотое великолепие, золото, за которым охотилось так много соискателей, но мало кто мог видеть дары, предназначенные не для каждого. Лишь промысел дарил Фрицу счастье жить с Дудой, когда ощущение восторга, привкус безубыточного счастья, удовольствие от ласк предназначались его трубе.
– Я свободна, – шептала Дуда.
Ветер шевелил волос на висках, она не верила в очевидность собственного освобождения.
Дуда даже пела, рождая мелодии, одну прекрасней другой, не показная сортировка чувств, ведь на самом деле мироздание всего лишь игрушка из детского магазина, мир величиной в трубу. Раз за разом, восторг не управлялся с удовольствием, Дуда тихонько целовала трубу, чувствуя ее силу. Дуда растворилась в таинственных ароматах, она словно обретала на минуту забвение, и вот уже ломит затылок горечь промерзшего на степном ветру шиповника, лисы, почуяв первый снег, объедают ягоды, на глазах растут люди, утопая в мягкой бессвязности ласк трубы. Отчего так мучительно мало дней для счастья?
Обессиленная, возвращалась Дуда, мягко ступая вслед за парой лебедей, обживших самовольно трубу, птицы иногда выходили из укрытия поплавать на свободе. В такие редкостные вечера Фриц брал Дуду на руки, укачивал ее, укрывая кромкой тени, словно малое дитя. Дуда закрывала глаза, уставшая, счастливая, однако освободиться от лепета звезд не могла. Но и возникавшие мелкие колкости казались в сравнении с храпом дяди мельчайшими недоразумениями, храп преследовал, душил, подрезая на ходу легкий шаг Фрица. На исходе недели павиан привязался к Дуде, выискивая глазами знакомый абрис фигуры, терпеливо поджидал женщину, не притрагиваясь к пище до тех пор, пока долгожданный помидор из ее рук не окажется на тарелке. В воскресенье павиан совершил побег, безжалостно перепилил цепи, сложнейшие механизмы которых создал дядя, всякий раз не без гордости подчеркивая собственное значение перед дикой природой, скрылся в неизвестном месте, чем взбесил дядю, вспышки веселости которого стали беспокоить Фрица, приобретая затяжной характер. Черт, съешь подлого дядю!
По утрам Дуда мучалась головной болью, дядя был, наоборот, свеж и бодр, радостно пожирал яйца, ловил мотыльков, которым незамедлительно отрывал крылья, выбрасывая под ноги бьющиеся тела, много смеялся.
– Скотина, – ярился Фриц. – Смотри, что выделывает.
Оставшуюся до отъезда неделю, как утверждал дядя, он решил посвятить поиску павиана, однако не сдвинулся с места. Павиан нашелся сам собой. Животное внезапно возникло на соседствующей с тенью Фрица пирамиде, где при любой погоде, днем и ночью животное, выставив блинообразный зад, дразнило с азартом дядю. Павиан нарисовал на спине дядин портрет, исковеркав лицо до карикатурного минимума, подписи были самые скверные, уличали дядю во многих грехах, показав Дуде скрытые таланты, на первый взгляд, твари, место которой в клетке, как любил пофилософствовать дядя. В любую минуту, когда вздумается павиану самовыразиться, он начинал ходить на четвереньках, вертел задом, надоедливое действо вошло в привычку, когда не до смеха, не до скуки, а так муть и брезгливость набегают на строку.
– Н-да, – смеялся дядя.
– Каков хозяин, таков и павиан, – не сдерживал негодования Фриц.
Глупая Дуда плакала, впрочем, как все женщины ее типа.
– Труба твоя гудит, покоя на земле нет. Нужно тряпочкой дырку прикрыть, на кой нужно, чтобы ветра переговаривались? – ворчал дядя.
Вскоре Дуда, начисто позабыв об осторожности, продолжила свои блуждания по трубе, перестав обращать внимание на взбунтовавшегося павиана, и дядя, с его мешкообразным животом, отдалился, он словно съехал вбок, потерял для Дуды всякое подобие осмысленности. Лишь единое всегдашнее предприятие забавляло Дуду, она по-прежнему держалась в трубе солнечной стороны. Наутро в четырнадцатый день совместного долготерпения Дуда и Фриц не обнаружили дядю на прежнем месте, и это было так неожиданно, выглядело нелогично, но можно сойти с ума от счастья. Пора возвращать себе маленькие радости прежней жизни, однако обнаружилось, что мешали долги дяди. Малиновая шуба, которую всегда надевала Дуда, отправляясь на болота к старому знакомому, кучерявому Бесу, исчезла вместе с родственником. Одно позитивно: старый негодяй испарился, бабочки вздохнули с облегчением, стрекозы с прежней страстью парили в небе, а старая слепая медведица Фифа на радостях зазывала в гости. Дуда отложила свой визит. Носилась вокруг шезлонга. Одержимая счастьем, перепрыгивая через мост между тенью Фрица и трубой, передразнивала павиана, добровольно подставлявшего облезлый зад под удары кислых яблок.
Дядя вернулся через два часа живой и невредимый, воспользовавшись отсутствием Дуды, занял ее шезлонг. С видом победителя почесывал живот, то и дело неприязненно косился на Фрица. С того дня Дуду как подменили. Она осунулась, почернела, часами просиживая на руках Фрица, безмолвствовала, и никакими ухищрениями невозможно было от нее добиться подобия слова. Смотрела на дядю с затаенной обидой ребенка. Но дядя потерял всякий интерес к женщине племянника, он зычно икал, его живот, убежище Молоха, урчал, а воздух, такой прозрачный и наивный, пованивал, едва гость начинал ворочаться в Дудином шезлонге.
– Я хочу, – нарушила вековое молчание Дуда, озадачив расстроенного Фрица, – чтобы на твоей могиле разбили парник, в котором вырастет огромный ржавый огурец, я накормлю им павиана.
Дядя после сказанного три ночи хохотал, прикладывая к слезящимся глазам ладони, Фриц морщился, сфальшивленные заоктавы мучили золото трубы напускными предостережениями. Дядя украдкой лез под платье к Дуде, дядя пах плесенью, впиваясь острыми корнями в колено женщины, за что был немедленно отстеган тонкими ивовыми прутиками по жирным ляжкам. Дуда все меньше становилась, похожа на саму себя, Фриц даже предполагал, что виной этому снег, что не может так долго стоять снег у порога, Дуда страдала от того, что степь вскоре уснет, припрятав до времени ветер. Так думал Фриц. Обессилено уронив голову, Дуда впадала в оцепенение, из разжатого кулака на колени Фрица выпал пушистый комок перьев, Фриц в первую минуту похолодел от ужаса, дядя, замахнувшись, прошипел:
– Вкусные были птички, что ни говори. И нечего жалеть, раскудахтался, раб трубы!
– Они жили во мне! – растерялся Фриц.
– Больше не будут, – успокоил заботливый дядя.
Орешник, разрастаясь в глубоких оврагах, посылал к Дуде своих сыновей, да стрепеты переговаривались, замирая в небе, посматривали на дядю, с каждым днем разрастался незримый круг выжженной земли вокруг гостя, иссякли струйки вьющегося воздуха, земля перестала гулять весенние свадьбы, и птицы ушли вслед за мерцающим жаром степных закатов.
– Нужно искать новую тень, – шептала во сне Дуда.
– Нет, – решил Фриц, – нам нужен новый ветер.
– Куда там… – зевнул дядя. – Разве вам недостаточно меня одного? Им еще ветер подавай! Да ты что, племянник? Едва ветер меня накроет, пиши, пропал дядюшка.
– Новый ветер, – Фриц одержимо смотрел на Дуду, прося ее согласия, но женщина, теряя прежнюю уверенность, лишь слабо улыбалась, тень, оттиск слюдяного ангела, некогда упавшего в золотые травы степи.
– Есть ветер настоящий, а есть фальшивый, – дрожащими руками Дуда беспорядочно набивала в сумку вещи.
Натружено пели лягушки в любовном раже, чуя шкурой: скоро, очень скоро место под зонтом опустеет, Дуда и Фриц покинут облюбованный рай, растворясь в безвоздушности, ведь тысячи сквозняков вселенной в одном озере или болоте (вода она везде вода) соединены воедино. А уходить Дуде и Фрицу придется, дядя непреклонен, дядя не отдаст так запросто захваченный шезлонг. Когда двоих не стало, исчез зонт, спасавший от неверия многообразие форм жизни, для павиана не нашлось помидора, способного в руках Дуды превратиться в некий знак одобрения нелепых плакатов, раскрашенных его неумелой рукой, оставшимся стало мерзко жить. Что же станется с несчастными лягушками, откуда черпать страсть? Их песни, отраженные в трубе Фрица, теряли свою прелесть, превращаясь постепенно в огульное лягушачье кваканье. Чувствовалось, как тоска засела по углам недружным кордоном, лягушки хотели бы вновь стать трубами в чужой голове, да кто пустит на постой это племя? Через неделю, одурев от тишины, павиан сбежал по щербатым ступенькам с пирамиды. Огибая выбоины в камнях (там, в балках, еще теплилась вязкая жизнь), до самого вечера ловил прожорливого дядю, согнав из шезлонга, а дальше, настигнув старика, ухватил за венозную лодыжку и со всего маху швырнул в пустеющую балку, поросшую едва различимой травой. Еще через неделю эфирной тишины ветер, принесенный в карманах дяди, искал то пристанище, ради которого он вынужден был отправиться в столь рискованное путешествие, но не найдя трубы, место Фрица вымерло, мучался без сквозняка, без легкости и тяжести одновременно. Выбросили шлепанцы Фрица на помойку, выбросили да не забыли.
Красное море покраснело, сорваны травы, вывернуты корни, те самые корни, которыми прирастает человек к сердцу, мозгу матери, первой матери, родившей человека, способного не столько брать, сколько отдавать, матери, научившей любить мироздание, тем, кто не наелся добром вдоволь. Дуда, словно цветок, сорванный с корнями, шла вслед за Фрицем, оставляя за собой разводы красных пятен, след на белых покровах туманов, кровь Дуды пополняла моря, истекая в озера, умирал Дудин, не родившийся, сын. Фриц, прижав к груди бесценную ношу, утешал Дуду, как мог, гуляя по облакам.
Не знаю, была ли утешена Дуда. Каждую ночь люди встречали Дуду в разных местах, она посаженой матерью присутствовала на свадьбах змей, хоронила акулу, пила вино с моряками в старом баре за молом. Но всегда возвращалась к Фрицу, памятуя, что не так просто забыть поцелуи и запахи, пятнистые проплешины на рубахе, разогретой безжалостным солнцем. Дуда так и не смогла привыкнуть к мысли жить на руках мироздания, ощущая себя сосной, вырванной ураганом из песчаной плоти. Корни теряли намоленный рай.
«Руки Фрица заняты, – размышляла Дуда, – ребенку негде жить, некуда преклонить голову. Мои руки не станут его руками. Сын уходит от меня. Я кровоточу».
Огромный желтый бык поджидал Дуду у ворот Иерусалима. Но войти в них Дуде не суждено было, еще только затеплился рассвет, как бык увез младенца, так и не ставшего сыном, отцом, дедом, вернув себе взятое у земли. Дуда не просила помощи, она не издала ни звука. Хотя миры и мириады воздушных Див соединились над головой, концом путешествия стал крик последнего петуха, глупой птице положено было петь именно так, а не иначе, волос Дуды взлетел паутиной кверху, соединяясь в круги, по которым шляется человечество в поисках счастья. И здесь не было места для трубы Фрица, его шезлонг не нашел для себя подходящую тень, пора, пора возвращаться к Красному морю. Дуда выкурила сигарету, долго и настырно искала она ржавый ключ от дома, где некогда была счастлива, но, увы, от дома остался пепел, пирамиду омыли ветры, не давая покоя царям, вынужденным вместо трубы Фрица терпеть голоса людей, притихли лягушки, а павиан пошел бродить по лабиринтам подворотен.
– Мы вернулись. Здесь, Фриц, мы вновь будем пускать корни, – решила Дуда.
Фриц согласился, вновь запестрел его зонт на прежнем месте.
Разве история Фрица и Дуды окончена? Нет, так будет до тех пор, пока в Океане таится до времени белая пухлая лилия, частенько посматривая в небо, ищет она посох, гремящий об облака, и дело, в общем, не в том, куда направлен взгляд Дуды, а в настойчивом желании Фрица хоть сколько дать трубе петь, нет, не достучаться до кругов вечности, какой прок от идола, молчащего вверху, если сам Фриц надел на голову убор из жерновов, если Бог Фрица не в состоянии разглядеть самого обычного человека.
Отец наш небесный, дай силу обрести шезлонг, для каждого свой! Что же ты молчишь? Или ты получился из средства для выведения пятен, ну уж не ты приложил руку, чтобы уберечь трубу Фрица.