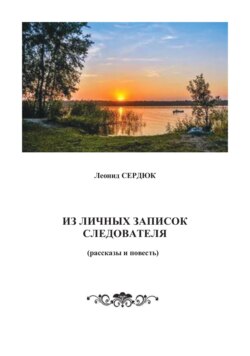Читать книгу Из личных записок следователя - Леонид Сердюк - Страница 3
Экскурс в застойные времена
ОглавлениеОписываемый период моей работы в качестве следователя прокуратуры, начинается с того времени, когда Юрий Гагарин уже слетал в космос, а Крым передан в дар Украине как братскому народу добрейшим Никитой Хрущевым. Мой интерес к работе следователя выражался в осознании пользы, которую человек приносит людям, т. е. живет не только для себя и своих близких, но делает какое-то общее и важное дело. Эта работа проходила в районах Сталинградской области и в самом Сталинграде в течение десяти лет с 1964 по 74 год. Наступала Хрущевская оттепель, и затем Брежневский застой, ставшие знаковыми периодами в жизни страны и, по сути, в жизни каждого человека. Это было как бы затишье перед бурей последовавшей затем перестройки с приходом девяностых, когда все быстро менялось. Ожили и засуетились воры в законе, пытаясь вмешаться в передел народного добра часто с риском для жизни. Но активизировался не только криминал, на юге страны поднимал голову чеченский нацизм. Это было начало девяностых. Грянувшие ельцинские свободы порождали капитализм, который был еще слабым и неумелым. Как грибы начали создаваться банки. И тут же хлынувшие в центральную часть России мошенники с юга начали умело их опустошать путем получения больших кредитов под любые проценты, отдавать которые не предполагалось. Кредит оформлялся приезжими на имя обманутого местного жителя под какое-то строительство, деньги переводились на соучастников в другой город якобы на покупку строительного оборудования, и вся команда с деньгами исчезала в южном регионе страны. В Хабаровске, например, таким вполне цивилизованным образом было ограблено 12 банков. Возникшие уголовные дела, естественно, остались нераскрытыми. На все запросы правоохранительных органов по этим уголовным делам юг страны отвечал молчанием. Всего по стране насчитывалось в этот период более 500 так называемых банковских «авизо». Это было накануне войны с Чечней.
Так начиналась перестройка в стране. Учитывая особую роль этого периода, чтобы показать некоторые условия зарождения в России новой эпохи, начну свой рассказ с брежневского застоя. Этот период, на мой взгляд, не менее интересен, чем последующие Горбачевские годы и лихие девяностые. Власть почивала на каких-то своих лаврах. Сам Генеральный секретарь партии коммунистов Л. И. Брежнев прославлял себя в мемуарах о своих боевых подвигах во время войны, выпустив книгу «Малая земля», а его окружение вешало на его грудь звезды героя войны и труда.
Л. И. Брежнев, как и его предшественник, страстно любил охоту. В самой дельте Волги, там, где она в несколько рукавов впадает в Каспийское море, в самом центре государственного заказника для него был сооружен специальный охотничий домик. Много позже, когда уже Л. И. Брежнев ушел из жизни, я побывал в тех местах в компании с астраханскими работниками рыбнадзора, чтобы полюбоваться на цветущий каспийский лотос. Егерь Егорыч, опекавший ранее Л. И. Брежнева, как мне показалось, с удовольствием рассказывал о прежних временах, и о том, как Леонид Ильич убивал в лёт за один вечер по пятьдесят гусей. Я спрашивал, куда же девал он столь обильную добычу. Егерь отвечал, что охотник мало интересовался судьбой раненой и убитой птицы. Ему важен был сам процесс охоты, который его сильно возбуждал, нагонял аппетит и стимулировал последующий сон на свежем воздухе под москитными сетками. Далеко не всю битую дичь подбирали, так как было много подранков. Их затем собирали поутру работники рыбнадзора и заповедника, отыскивая среди зарослей лотоса, и увозили куда-то на катере, так как на воде мертвых гусей оставлять было нельзя.
Мне многие говорили о добром характере Л. И. Брежнева, поэтому просто не укладывалось в голове, как он мог так поступать. Что же это за страсть такая – охота? – думал я, искренне жалея братьев наших меньших.
В мое посещение устья Волги на Каспии больше поразил не цветущий там лотос, а то, какими темпами вылавливался осетр специальной государственной артелью рыбаков с применением больших катеров и громадных размеров неводов, которыми полностью перегораживался рукав Волги. Катер тянул невод, а когда бригада вытаскивала его на берег, невод был полон рыбы самых разных пород и размеров, в том числе осетров. Бригада забирала осетров, а остальную рыбу оставляла прямо на берегу как ненужный мусор, в том числе огромных лещей и язей. Берег был усеян рыбой, которую люди даже не пытались сбросить в воду. Ее подбирали лишь чайки и буревестники. Осетры тут же загружались в специальный плавучий корабль-холодильник, и частично нелегально обменивались на водку в соотношении осетр – бутылка. Осетры ловились для работников обкома коммунистической партии Астрахани, но фактически львиная доля предназначалась для партийной элиты Москвы.
Первый зам. министра внутренних дел застойного времени Ю. М. Чурбанов под опекой тестя возомнил себя всесильным, и, якобы, заявлял во время застолья: «Завтра кем захочу, тем стану». Эта его знаменитая фраза, хотя и была сказана в Волгограде в узком кругу доверенных лиц в тайной обкомовской сауне за Волгой, но уже на следующий день ее знал почти весь город. Волгоградская высшая следственная школа МВД СССР, где я в то время уже преподавал, с волнением готовилась к приему зам. министра, но он все три дня отдыхал за Волгой, и, уезжая на четвертый день, говорят, увозил с собой «полвагона» черной икры.
Что касается браконьерства, в том числе на государственном уровне, то и в Волгограде, который в это время уже был переименован, для меня это не было новостью. В запретной зоне Волги около ГЭС целая бригада узаконенных браконьеров, под видом лодочной станции по ночам тайно вылавливала кишащих перед ГЭС осетров для обкома партии, а обком, в свою очередь, снабжал черной икрой Москву.
Умер Л. И. Брежнев, и Ю. М. Чурбанову припомнили все. Он был привлечен к уголовной ответственности за взятки и еще за много других надуманных и действительных грехов, получил двенадцать лет лишения свободы, отбыв половину этого срока.
Но самым обидным было привлечение к уголовной ответственности по этому же делу, как взяткодателя генерал-майора милиции К. Д. Иванова, более двадцати лет возглавлявшего Сталинградский «Желтый дом» (Областное управление МВД). Те подарки высоким лицам, которые были в порядке вещей на протяжении двадцати лет его генеральской службы, в чурбановском уголовном деле вдруг превратились в серьезное преступление. К. Д. Иванов был осужден к пяти годам лишения свободы за дачу взяток и весь срок отбывал в Караганде в качестве прораба на строительстве каких-то объектов государственного значения.
Во времена брежневского застоя высшие партийные чиновники мало заботились о трудовом народе. Они жили в свое удовольствие, питаясь из специальных магазинов. Работая следователем прокуратуры уже в самом Сталинграде, я продолжал дружить с Николаем Родиным, который работал вторым секретарем райкома комсомола в г. Котельниково, когда я там начинал свою следственную карьеру сразу после института. Теперь он, получив повышение по партийной линии, был работником отдела пропаганды Сталинградского обкома партии. Мой друг любил хвалиться разными дефицитными вещами из обкомовского, так называемого, «погребка» от заморского вина до дубленок и шапок из ондатры, что мне следователю, замученному расследованием преступлений, даже не снилось. Мне было далеко до его нарядов. Я немного стеснялся от вида своих форменных ботинок и почти никогда не снимаемой казенной прокурорской формы, похожей на форму гражданских летчиков. Что-то модное из одежды купить на сто пятьдесят рублей следовательской зарплаты при наличии семьи было просто невозможно. Когда я заходил домой к другу вечером после работы, он смотрел на мои ботинки, потертую форму и с нескрываемой иронией шутил:
– Ты так традиционно одет, что я даже горжусь тобой. Глядя на тебя, сразу поймешь, что ты взяток не берешь.
Потом он выставлял на стол очередную бутылку заморского вина и говорил с нескрываемым удовольствием:
– Сегодня мы с тобой снимем пробу бельгийского светлого. Посмотрим, что они там для нас приготовили.
Разница в нашем социальном положении с Николаем Родиным была примером положения рабочих и управленцев советского времени. – Что же это за социализм, призванный в своей теории олицетворять равенство и справедливость? – думал я тогда. Но об этом не принято было не только говорить, но даже сомневаться было нельзя в том, что социализм непременно перерастет в коммунизм – всеобщее благоденствие, правда, в каком-то следующем поколении. Это для меня, думаю, и для большинства населения, было не более реальным, чем фантазии Т. Компанеллы о «городе солнца». Но это призвано было воодушевлять людей на преодоление любых трудностей ради достижения конечной стадии социализма.
Когда сегодня я слышу ностальгические вздохи сравнительно молодых людей по советским временам, догадываюсь, что они либо далеки от жизни тех лет, либо это отпрыски тех, кто имел доступ к специальным магазинам при хорошей зарплате.
Но по разным местам расставило чиновников от власти начало девяностых. Богатыми остались только те партийные работники, которые оказались рядом с партийной кассой. В Хабаровске, например, на эти деньги был открыт роскошный ресторан. Наступившее беззаконие «отмыло» не только партийную кассу, но и воровской «общак». Россия как бы проснулась, застойным временам пришел конец. Криминальная часть населения бросилась захватывать и делить между собой часто в жестоких и кровавых схватках все народное достояние от фабрик и заводов до природных богатств: угля, нефти, газа, золота и т. д. В этой борьбе погибло немало и криминальных элементов, в том числе воров в законе. Как они выражались сами, происходил естественный отбор, где побеждали те, которые стреляли первыми.
Надо заметить, что и последующая старая гвардия коммунистов, в частности, в лице больного Константина Устиновича Черненко и его приближения чувствовала себя не менее обособленной и удаленной от народа. Памятным для меня явился тот день, когда я, работая уже начальником кафедры уголовного права в Рязанской высшей школе МВД СССР, в звании майора милиции, в обход установленных правил попытался попасть на прием к Александру Устиновичу Черненко – родному старшему брату Генерального секретаря коммунистической партии СССР. Он в звании генерал-майора возглавлял Управление учебными заведениями МВД. У меня не было в Москве времени ждать приема в течение иногда нескольких дней, и я в милицейской форме майора решился пройти к нему без доклада на свой страх и риск. Вооружившись красной папкой, уверенно прошел мимо секретаря, сказав, что меня вызывали. Постучав, и не дожидаясь ответа, вошел в роскошный кабинет генерала. Он в это время наливал чай из самовара и, подняв на меня удивленные глаза, собирался что-то сказать. Я заметил его возмущенный вид, но, опередив его, бодро сказал:
– Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор!
– Не разрешаю! – громко сказал он с суровым выражением лица.
В его старческом, но вполне величественном образе было столько высокомерного достоинства, что я пожалел о своем, мягко говоря, не скромном визите и попытался выйти из кабинета. Однако генерал остановил меня движением руки. Он поднял трубку внутреннего телефона и кричал в нее, уже не обращая на меня внимания:
– Кого вы ко мне пустили?! Что это за майор?! Что ему нужно?! Он видимо хочет, чтобы я снял с него погоны!
Ему что-то говорили, видимо оправдывались, а я стоял, ожидая уже любого результата. Наверно, этот мой покорный вид несколько успокоил старика генерала. Он помолчал, занимаясь своим чаем и искоса посматривая на меня. Казалось, от горячего чая постепенно гнев его начал остывать.
– Ну ладно, говори, зачем пришел, – наконец снизошел он ко мне, и я высказал свою просьбу перевести меня из Рязанской высшей школы МВД в г. Уфу в открывающуюся там такую же высшую школу.
– Ишь, чего захотел! – воскликнул генерал. – Какая в Уфе школа?! Она еще вилами писана, и возможно ее не будет, кто тебе о ней говорил?
– Все говорят, товарищ генерал, – сказал я, чтобы не называть фамилий.
– Работаешь начальником кафедры в Рязани, вот и работай, пока я тебя не выгнал и оттуда за недисциплинированность.
– Ну, ладно, – помолчав, повторил он уже мирно.
– Школа, наверное, в Уфе будет. Только это будет не скоро, года через два, уже, наверное, без меня. Сейчас на это нет денег.
Что-то слишком много слов «наверное», подумал я.
– А чем Рязань тебя не устраивает? Это красивый город, родина Есенина. На работе что-то не так?
– Да нет, товарищ генерал, на работе все хорошо, квартиры нет, стройку заморозили, устал с семьей в общежитии жить.
– А думаешь, в Уфе так сразу и получишь квартиру. Нет, друг мой, если будет строиться школа, там будет не до квартир. Езжай в Хабаровск, там люди нужны, и квартиру там получишь без проблем. Не бойся, что это далеко, зато там климат хороший, абрикосы растут, рыбы много. Я бы тоже там жил, да Москва не пускает.
Высшая школа МВД в Уфе была создана только через пять лет, а в том 83-м я уехал в Хабаровскую высшую школу МВД, возглавив там кафедру уголовного права на целых десять лет. Этот период моей жизни совпал с началом роста криминала в стране. Новое время порождало новые формы преступности. Появился рэкет. Но все равно, основной бедой были квартирные кражи. Хабаровский край оказался удобным местом жительства для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Зачем было им ехать куда-то к центру страны, если и в Хабаровске был неплохой климат. Да и сама столица края была не менее бедной, чем другие регионы Советского Союза. Милиция, как говорится, сбивалась с ног в поисках преступников, но они как будто проваливались сквозь землю. Начальник Управления МВД Хабаровского края генерал-майор Воронов, устав бороться с преступностью, пошел даже на нетрадиционные меры. Он нелегально поехал в Комсомольск на Амуре к держателю воровского «Общака» вору в законе Джему на переговоры с просьбой усмирить квартирных воров и рэкетиров. Джем обещал поговорить с воровской общиной, но от разговора с рэкетирами отказался.
– Я к ним отношения не имею, – сказал он, – у них свои волчьи законы.
Понимая основную причину корыстной преступности, генерал Воронов попытался организовать социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, планируя построить для них высотное общежитие с обеспечением их трудоустройства созданием вокруг общежития мелких предприятий. С этой идеей он пришел к криминологам Хабаровской высшей школы МВД. Но, конечно, это была утопия. Ученые не посоветовали ему строить для освободившихся жилье, сказав, что общежитие явится лишь рассадником преступности, и генерал отказался от этой идеи. Это был тот самый «один в поле воин», но в борьбе с преступностью он оказался бессильным.
Однако его идея не пропала даром. Кафедра криминологии Хабаровской высшей школы МВД, которой я тогда руководил, пришла к выводу, что борьбу с преступностью надо начинать не с рецидива, а с организации правового воспитания нового поколения. Был написан учебник для средних школ «Основы права». С помощью Главного управления народного образования СССР по Дальневосточному округу учебник был распечатан полумиллионным тиражом и бесплатно разослан по всем школам Хабаровского края. Это была последняя бесплатная миссия советской власти для молодежи. Кроме того при высшей школе МВД была создана двухлетняя «Школа юного правоведа», куда принимались школьники 8–9 классов, с выдачей по окончании обучения соответствующих удостоверений с оценками по вопросам права, истории и экологии. Прошедшим обучение предоставлялись льготные условия при поступлении в Хабаровскую высшую школу МВД СССР (ныне Дальневосточный институт МВД России).
Но и эта попытка изменить криминальную ситуацию в крае не получила развития в ельцинские смутные времена. Шел девяносто второй год. В страну пришел капитализм, но преступность в Хабаровском крае шла прежним путем. Через год выяснилось, что руководил там ворами фактически не Джем, а сам начальник уголовного розыска города по фамилии Мещеряков вместе со своим заместителем – подчиненные генерала Воронова. Мещеряков с ворами был строг и разбирался с ними без суда за разные провинности. Например, сурово наказывал за укрывательство воровских доходов от милицейского «Общака». Однако воров возмущало наличие двух видов поборов – милицейского и воровского, и они бунтовали.
Организованная группировка Мещерякова была раскрыта только после того, как он застрелил двух провинившихся перед ним членов воровской организации. Начальник уголовного розыска это сделал без особых церемоний и без особой организации своего самосуда, осознавая свою полную власть и безнаказанность, зная, что воры никогда не пойдут на него заявлять, а конкурентов им не жаль. Приходя к провинившемуся домой, когда открывалась дверь, Мещеряков стрелял в виновного, закрывал дверь и уходил. Первое уголовное дело, возбужденное по данному факту, осталось нераскрытым. И только во второй раз главарь воров прокололся. Его заметили соседи по дому, услышав выстрелы. Этому способствовал тот факт, что убийце пришлось стрелять дважды, так как при первом выстреле потерпевший успел уклониться, и пуля пришлась ему в руку. Второй выстрел был контрольным. Он и был зафиксирован соседом по квартире. Во время следствия нашлись и другие свидетели из числа квартирных воров, которые мечтали избавиться от оборотней в погонах, обиравших их на половину их воровских доходов.
Краевой суд приговорил Мещерякова к расстрелу, и приговор был приведен в исполнение. Его заместитель получил десять лет колонии строгого режима. Дело не получило громкой огласки.
С появлением частного бизнеса активизировался «рэкет», более удобный и более прибыльный вид преступности. Вскоре его взяли на вооружение даже подростки, отбирая у сверстников мелкие деньги. Формировались новые криминальные кадры. Но из взрослых создавались серьезные преступные группы и даже организации, перераставшие в сообщества. Одна из таких организаций существовала и действовала буквально на моих глазах. Руководил этой группировкой вор в законе по кличке «Михась», который жил в моем доме этажом выше прямо над моей головой. Я наблюдал эту организацию почти ежедневно. Она состояла из трех специализированных групп (цехов): примерно пятнадцать боевиков, пять «ремонтников» и десять продавцов деталей японских машин. Преступная организация существовала вполне легально под вывеской торгового бизнеса, на что имелось специальное разрешение. О том, где организация брала детали японских машин для продажи на хабаровском рынке, не спрашивал никто.
В тот период на улицах города только начали появляться российские «Жигули» и японские подержанные «Тойота». Последние привозились российскими моряками из Японии, где покупались по бросовым ценам. Во Владивостоке на берегу Тойоты ждала очередь из желающих купить машину-мечту. Покупатели этих машин были из разных регионов. На трассе Владивосток-Хабаровск и пополнялся бизнес моего предприимчивого соседа именитого вора «Михася». Боевики встречали на дороге счастливых приобретателей японских машин и, угрожая битами, отбирали машины, правда, с оформлением распиской купли-продажи с выплатой суммы, с которой потерявший машину хозяин мог доехать домой. Вор в законе не мог позволить своим боевикам действовать по методам банды. Он презирал «мокрушников». Биты предназначались для того, чтобы в случае несогласия «продать» машину, она могла быть разбита, но без насилия над потерпевшим.
Отобранные машины пригонялись в Хабаровск и в течение десяти-пятнадцати минут превращались в запасные части. Машину уже невозможно было найти. Ремонтники делали свое дело под вывеской автосервиса, а продавцы на рынке свое. Преступную организацию прикрывал начальник ГАИ городского района, проживавший в этом же доме. Он выдавал главарю разные разрешительные справки и запасные номера от автомобилей, получая ежегодную взятку не деньгами, а японскими машинами. Прямо как борзыми щенками у Гоголя.
Боевики данной преступной организации часто собирались на площадке второго этажа моего дома, ожидая, видимо, указаний главаря. Они пили пиво и что-то активно обсуждали, почти как на комсомольском собрании прошлых лет, только чувствовалось, что их интересуют совсем другие темы. Проходя домой с работы мимо них в форме полковника милиции, я спрашивал:
– Что, ребята, опять собрались?
– Так точно, – охотно отвечали они, – место встречи изменить нельзя. Но Вы не беспокойтесь, мы не мусорим и не хулиганим. Вот только пиво пьем немного, извините.
Они демонстрировали мне трехлитровую банку, наполовину наполненную пивом, и были вежливы и культурны.
Случилось так, что я принимал экзамен по уголовному праву у начальника уголовного розыска моего района, который учился заочно в школе МВД на четвертом курсе. По окончании экзамена я рассказал ему об этой организации, предложил ее проверить и принять меры. Он выслушал с живым интересом, обещал немедленно этим заняться, но никаких действий от правоохранительных органов я не увидел и пожалел, что поставил ему четверку по уголовному праву.
Не менее криминальной была обстановка и в сельской местности. Суть в том, что не только правоохранительные органы в отдаленных селах и деревнях слабо реагировали на преступные проявления криминала, но и сами граждане редко подавали заявления по фактам ограблений или применения к ним насилия, так как мало надеялись на помощь правоохранительных органов. Я тогда так для себя выразил эту ситуацию в российской глубинке:
На деревне он слыл хулиганом.
У него был в кармане наган.
Он ходил по деревне с наганом
И стрелял иногда по ногам.
Все сидели затылки чесали,
Зная, что не уйти от судьбы.
Никуда на него не писали,
А готовили только гробы.
Такими были эти так называемые «лихие» девяностые.
В те ельцинские времена, приехав в Волгоград, я нашел своего друга Николая Родина, того самого бывшего обкомовского работника, который хвалился мне раньше своим достатком, в плачевном состоянии. Оказавшись далеко от партийной кассы, он не был среди тех партийных работников, которые эту кассу делили между собой, и возглавлял редакцию оппозиционной газеты «Казак», финансируемую донским оппозиционным казачеством. Газета была крайне убыточной. Мы с супругой на своем «жигуленке» заехали к Николаю на его недостроенную дачу, расположенную на берегу Волги. Он нас радушно встретил, но угощал уже не бельгийским вином, как раньше, а Портвейном – тем вином, которое мы простые строители социализма пили в советское время. Суть конечно не в этом, а в том, что он как убежденный коммунист, категорически не принимал новую политику страны, мучился этой своей убежденностью и своим бессилием в борьбе с народившимся капитализмом. Со своим взрослым уже сыном, не нанимая рабочих, строил дачу по старинке из длинных, очень тяжелых бревен, получив, как я позже узнал, на этой трудной работе грыжу.
Николай видимо считал, что и я сожалею о несостоявшемся коммунизме, и выразил большое желание меня приобщить к своей газете.
– Как жаль, что ты не живешь здесь, – говорил он, – мы бы такие дела с тобой закрутили.
Я не спрашивал, о каких делах он говорит, но догадывался, что он видел во мне старого соратника-коммуниста. Николай попросил для начала прислать ему мои стихи, чтобы сделать газету более веселой и близкой к молодежи. Я выразил сомнение, сказав, что сегодня не те времена, когда молодежь слушала и читала стихи, но все же, позже послал ему почтой свою первую книжку стихов, где была напечатана поэма «Суд идет». Это резко антисоветское произведение, посвященное сталинским репрессиям, видимо дало понять Николаю о моем отношении к коммунистам, и он не ответил. Мне было жаль потерять друга, тем более на какой-то политической почве. Хотя я и сам не мог терпеть наш российский капитализм, формирующийся на основе бандитизма и мошенничества, но и коммунисты меня не привлекали. Я понимал, что государственный уклад не причем, и с ним бесполезно бороться. Все заключается в характере самого общества. Его нельзя переделать. В нем всегда найдутся люди, которые будут грабить его законопослушную часть независимо от любых условий. Совсем как в том фильме, где бедный труженик крестьянин говорит эту историческую фразу: «Белые придут – грабят, красные придут – грабят». Словом, народ грабят при любой власти, а капитализм или социализм – разницы большой нет.
Высшая школа в Уфе, наконец, открылась в начале девяностых. Ее возглавил мой однокашник и друг Николай Анатольевич Катаев, получив звание генерал-майора. Кстати, он на эту должность ушел также из Рязанской высшей школы МВД, где работал начальником кафедры «Государства и права». В Уфе при формировании высшей школы ему нужны были преподаватели.
– Что ты там делаешь? – спросил он, позвонив мне в Хабаровск.
– Прекрасно живу и работаю, – отвечал я. – Если бы ты видел, какие у меня здесь в саду растут абрикосы, прямо как в Алма-Ата. Так что приглашаю в гости. Здесь рядом Владивосток с нашим ведомственным санаторием. Там очень чистый и теплый залив, по сути, океан, и природа изумительная.
Катаев терпеливо выслушал мой восторженный монолог, потом сказал:
– Давай езжай в Уфу, ты же вроде хотел здесь работать, мне люди нужны, а твоя природа меня мало интересует. Видишь, какое время, не до природы сегодня, это баловство не для нашего поколения, дело надо делать.
– Но у вас там вода с фенолом.
– Да вода сейчас везде с фенолом. Думаешь там твой Амур чище. Его китайцы еще как мутят. Когда ты успел так избаловаться, уехав далеко от Рязани? Давай подумай, сутки тебе на размышление. Это пока еще не приказ, а мой тебе дружеский совет, – закончил он шуткой.
При совете с супругой, она сказала:
– Знаешь, я жить в Хабаровске согласна, но умирать здесь вдали от Волгограда не хочу.
Это был убедительный довод.
После моего переезда в г. Уфу моя попытка организации правового воспитания в школах Башкортостана в средине девяностых не была поддержана Министерством народного образования Республики под предлогом отсутствия средств. Учебник «Основы российского права» по просьбе директоров школ я распечатал в коммерческом издательстве за свой счет в количестве полутора тысяч экземпляров, передал по двадцать штук на школы, и даже один год сам вел занятия в седьмых и восьмых классах подшефной институту школы. К сожалению, большего в правовом воспитании молодежи Республики мне достичь не удалось.
Вопреки прогнозам бывшего начальника Управления учебными заведениями МВД генерал-майора Черненко, Катаев наряду с организацией учебного процесса тут же начал строить девятиэтажный дом для работников высшей школы. Это было верное решение, так как школа, это, прежде всего люди. В этом доме – последнем подарке советской власти трудящимся, сегодня живут многие преподаватели школы, ставшей институтом. Когда Николай Анатольевич ушел на заслуженный отдых, оставаясь в институте профессором, благодарные жильцы дома воздвигли на стене дома памятную доску с выражением этой благодарности генерал-майору Н. А. Катаеву. Когда я ему сказал об этом, он искренне удивился, воскликнув:
– Но я же еще живой, зачем мне памятник?!
– Значит, видимо, заслужил при жизни, – отвечал я.
Мы редко встречаемся с генералом, хотя и живем в одном городе. Как-то все нет времени по старой привычке тех трудных лет, хотя оба искренне жалеем об этом, когда поздравляем друг друга по телефону по большим и малым праздникам.