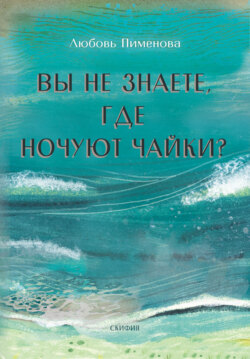Читать книгу Вы не знаете, где ночуют чайки - Любовь Пименова - Страница 12
Гавриловны
Повесть
Глава 2. Семья. Начало пути
ОглавлениеВ семью Нюра попала работящую и крепкую. Заправлял всем дед Филипп, суровый нравом и справедливый, не въедливый к молодой снохе. Да и матушка была к сношке добра и учила всему без выговоров, без характера. «Ты, девка, смотри и примечай, а чего не знаешь, – спроси, за спрос не бьют», – говаривала она. Нюра и спрашивала иногда, но больше старалась наблюдать, что и как. Как тесто поставить, как тщательно и медленно каймак с толстой поджаренной корочкой сверху сделать, как чисто-начисто белье в Дону постирать и просушить. Да мало ли. В девичестве, по младшинству в семье не все домашние работы поручались ей – берегли ее, а утром мама или бабушка шепнут: «Позарюй, касатка, позарюй еще!», да дверь ее комнатки покрепче и прикроют от шума на дворе. Не то сейчас – мужняя жена должна все успеть, – она работница в доме, а дела ежедневные шли косяком. К вечеру уже была без ног, даром, что молодая. Когда мужики приходили домой и умывались на дворе или в тазу, она поливала Гавриилу на шею, спину, на голову, утирала свежим полотенцем и радовалась преждевременно, что день забот окончен и остались только ужин и отдых.
Но всегда оказывалось, что и подать на стол и убрать с него, а потом перемыть и перетереть посуду, а после еще и подмести кроме нее больше некому. Понятно, что не свекровино это дело, но и сестра Гавриила, черноокая Мотя, не очень-то охоча была до дел на кухне. Она уже приближалась по возрасту к «перестаркам»:
восемнадцать с половиной – это по хуторским меркам много – и настроение у нее не всегда было подходящим для разговоров и нежностей, а сношка была проста и бесхитростна, так и пусть знает свое место. Мотя была отцовской любимицей, и это особое место в семье обеспечивало ей поддержку в любой спорной ситуации. Бывало, и обижала она Нюру резким словом или презрительным пожатием плечика в ответ, да и за спиной могла обидное сказать матери или Грише про неумеху и криворуку.
Аннушка, как и полагается снохе в семье мужа, только вздохнет неслышно и идет дальше работы работать. А жаловаться нельзя, не положено. Да и жилось ей по большому счету покойно и счастливо. И совету бабушки, аккурат перед свадьбой данному, она сама следовала, а потом дочерям и внучкам передала по наследству – что бы днем ни было, разругались-расшумелись или что еще, идешь в кровать – все забыла, все оставь там, в дне. И хорошо поэтому им было с Гавриилом, когда повечеряв, они шли на свою половину и попадали в свой мир, где не было ни обид, ни колких слов, ни усталых рук и ног.
Один день отправилась как-то Нюра родителей проведать, в одиночку, – муж со свекром по делам куда-то наладились, да и у свекрови заботы нашлись, она и одобрила: «Сходи, чего ж не сходить, пожалься на свекровь злую», – и улыбнулась.
Вот дома радости-то было, мамушка и слезинку пустила:
– Как ты там, жалкая моя? Не сильно забижают?
– Не забижают, нет, маманя, да и Гаврил не даст, он жалеет.
– Как Мотька-то, замуж еще не собирается? Видела ее надысь с Петрухой, Толстопятовых батраком. Уж и выбрала себе крученого, – нябось, Филипп не рад?
– Да и не знаю, маманя, мне они не говорят. А Моте недавно новую дошку и ботиночки со шнурками справили, свекор с ярмонки привез. И Авдокея говорила – Мотя у нее цветочки свадебные приходила смотреть, может, присматривает. Вы-то тут как, не скучно без меня? Управляешься? Ой, пойду в комнату свою, как там все сейчас?
– Ну сходи проверь, может, что еще забыла, так забери. А я пока на стол соберу – вон и Степушка к обеду возвращается.
Встреча со старшим братом была такой же сердечной. Рассказал, что родители скучают без нее, у мамушки иной раз глаза на мокром месте, переживает за дочку «в людях». В хозяйстве все ничего, слава Богу. Жениться вот надумал, скоро к Наталье сватов будем засылать. И так-то хорошо было побывать дома, втянуть ноздрями его воздух и снова почувствовать ни с чем не сравнимое ощущение покоя, любви и тепла.
Теперь ее жизнь была включена в круговорот времен года и сельских работ, а еще в то новое, что несло в себе ее новое положение – жены и, кажется, скоро-скоро – матери. К весне она уже ходила тяжелая первенцем, оказавшимся горластой крепенькой Анфисой. Гавриил ждал, конечно же, наследника, но, когда взял на руки это тепленькое тельце, взглянул в такие же голубые, как у матери, глаза, сказал: «Девка. Ну и хорошо. Следом парень будет».
А следом была опять девка. Назвали Параскевой, да только имя свое она недолго носила, за неделю истлел младенчик – никто не знал, от какой напасти-болезни. Долго-долго еще звучал этот хриплый плач и слабенький кашель в Нюриных ушах, и тельце горячее помнили руки. И душа свербила так долго, что казалось, никогда не отболит. Нюра едва не истаяла за полгода, почти без еды и сна, не слушая увещеваний матери и свекрови – у тебя дите! – потому что глотать разучилась. И сна не было ни в одном глазу, несмотря на усталость и полное изнеможение после долгого дня забот. Анфиса и вытащила. Уж такая ласковая девчонка получилась у Гаврила и его Аннушки, такая сноровистая и хваткая, все ей знать и понять надо. Вопросами замучает за день. И когда уже умучает ее вконец, а дела не переделаны, то и отправит ее на другую половину, к бабе с дедом. А тем и радость угостить лакомым кусочком и порасспросить ее о новостях ее младенческих, да и рассказать ей про Репку да Курочку Рябу, про Бобку-сторожа и свинью Машку в хлеву, про батенину Серую, да про лису и волка во полях и лесах. Бабушка особенно любила поговорить про Боженьку, про доброту его и всевидение (грешить-то нельзя – накажет).
– Баба, а я когда ночью под кустиком писаю, он тоже видит?
– А вчера я у Бобки мячик порванный взяла и выбросила, теперь Боженька накажет?
И так-то славно бабке эту головушку шелковую гладить и улыбаться неприметно в душистый затылочек.
Тут и опять отяжелела Аннушка, на радость мужу. Кто будет – не обсуждали, был бы жив и здоров младенчик. Носила легко, только в конце беременности не могла уже все управлять, так семейным советом решили, что Мотя будет за старшую и на кухне, и в хлеву. Той мало радости, да куда денешься, отец сказал – значит, приказал, а вопросов не задают в казацкой семье. К этому времени Нюрина золовка уж и в самом деле застарела, вроде, как и глаз не блестел уже тем озорством и своеволием, не было той бойкости и цекавости, но все так же не могли Филипп с Федосьей уговорить ее отказаться от крученого ее. Уже и отслужил Петруха и готов был хоть сейчас вести зазнобу свою под венец, но нет, ждали кого-то или чего-то отец с матерью. Невдомек им было, что встречи их непослушной дочери с неугодным кавалером уже приводили ее к бабке-повитухе, и того они, мудрые, предположить не могли, что когда-нибудь порадуются за нее, ставшую наконец женой по новым временам большого человека, Петра Ефимыча. Члена совета бедноты, вон как вышло-то. И посему избежит она участи всей ее кулацкой семьи. Одно плохо – деточек у них никогда не будет. Но на то Божья воля.
К самому цветению яблонь подгадала третья Гавриловна, Раиса. Родилась быстро и заголосила громко, чистый кочеток утренний. Весело, радостно, вот, мол, дождались, я и пришла. И все было как у первенькой: ручки-ножки на месте, тельце чистенькое, складненькое, – все бы хорошо. Одна беда – губа. Заячья. Как кормить, как растить, замуж выдавать? Простые житейские вопросы, и отвечать на них самим, – никто не подскажет. Снарядили процессию в Калач, найти врача и починить маленький ротик, пока дите с голоду не обкричалось – молочко материнское вытекало, и девочка никак не могла насытиться и уснуть покойно. Поехали Филипп, Гавриил и Нюра с маленькой. Нашли, зашил врач губку. Как смог зашил. Грубая, почти топорная работа его никогда не позволит Раисе говорить чисто и не стыдиться своего лица. Никогда не удастся ей избавиться от мысли, что она – урод среди нормальных, нежеланная среди любимых, и хоть мать жалела ее чуть больше, чем остальных, и помогала столько, сколько могла, Рая все равно будет жить с этой своей бедой и этой так остро ощущаемой обделенностью.
Но время двигалось то быстрее, то медленнее. Зима сменялась весной, весна летом. Только-только набухли почки на деревьях, а вон уже и яблоки спеют, а там и дожди зарядили. А вон, гляди, надо санки доставать – девчат катать с горки ледяной. Дети подрастали. Анфиса и Раиса были дружны, разница в возрасте была невеликой, и они делились своими маленькими секретами и тайнами друг с другом и иногда с бабушкой, если считали, что не продаст и не накажет. Грехи их были птичьи, радость жизни била через край – ну когда же и радоваться жизни, как не в детстве. Нюра же вернулась ко всем своим обязанностям ровно до той поры, пока не поняла: понесла. Зимним вечером, отужинав, уложив детей, сообщила мужу, зардевшись. Гавриил воспринял новость, как и положено отцу семейства, со сдержанной радостью и тайной надеждой.
– Может, парень теперь, – тихо спросил жену, стараясь не разбудить дочек в соседней комнатке.
– Ну кто ж знает, – пожала плечиками с улыбкой Аннушка, боясь дать ненадежную надежду. Да что ни будет – все наше. Вон они у нас какие, сверестелки, все бегом, все скаком, помощницы материны скоро уже. Чем нам девки-то плохи? Ну уж там что Бог пошлет…. Да по правде-то я ныне по-другому хожу, – может, и пацан.
Шустрый больно, так и толкается под сердце.
– Ну добре, ты уж тут управляй да не усердствуй, поберегись. А Аннушка тихо зашептала вечернюю молитву, расплетая густую, длинную по пояс, косу.