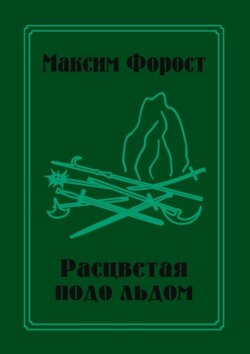Читать книгу Расцветая подо льдом - Максим Форост, Максим Анатольевич Форост - Страница 10
Часть вторая
Млейша
Глава II
ОглавлениеВещей у него мало. В основном, это одежда, что и так на себе. Ещё письмо Златовида да в особом свёрточке на груди – чудо-кушачок матери и её бусы из бирюзы, это на удачу. Всаднику в дороге важнее то, что может понадобиться коню. Грач через сени прошёл к стойлу. Сиверко всхрапнул, потянулся к нему губами.
– Привет, привет, – Грач отмахнулся, по-хозяйски осматриваясь.
Здесь на стене висит сбруя, приготовленная ещё с вечера и натёртая вонючей мазью из дёгтя, воска и рыбьего жира. Тут же попона с капором, чтобы холодными ночами укрывать Сиверко, и новенький чапрак. Вот тут Грач заколебался: чапрак это покрывальце под седло, чтобы не натирать коню спину, вещь неплохая, но лишь тогда, когда скачешь от хутора до Залесья. В дальний путь лучше взять что-нибудь поплотней. Из угла Грач выдернул войлочный потник – пусть не новый, потёртый, но зато прочный.
Он обернулся к Сиверко:
– Ну, вот теперь привет, красавчик. Ну-ка, давай, показывай свои ноги!
Грач присел, чтобы осмотреть и ощупать у жеребчика сухожилия на пястях и бабках. Жеребец молод и крепок. Сухожилия у него в порядке, их даже не надо перетягивать жгутами. Растяжений не случится. Но гнать во весь опор Грач не станет и жгуты, на всякий случай, с собою захватит.
– Умник, Сиверко, молодец!
Он вывел жеребчика со двора – лучше седлать его на воле, чем суетиться лишний час во дворе. Закрыл за собою дом и ворота, и вдруг болезненно сморщился: по просеке со стороны Залесья шли Власта и Руна. У Грача даже перехватило дыхание. Руна была по-весеннему хороша, а он мучился, стараясь не глядеть на неё или же, если бы такое было возможно, смотреть насквозь, как будто она из стекла. Лихорадочно он подыскивал слова для объяснения своего поведения, но так и не подыскал их. Руна успела подойти.
– Ну? Что больше не заходишь? – спросила с вызовом в голосе. – Привет, говорю!
– Здрасте, – выдавил Грач. Сказал-то это обеим, а в глаза поглядел одной Власте. На Руну смотреть он был не в состоянии. – Собираюсь, вот.
– Да я вижу, – протянула Власта со вздохом. – Нам Златовид говорил. Когда же тебя ждать? К осени?
– Да нет, вы что! За месяц обернусь, отдам письмо и обратно, – а сам подумал: – «Неужто к осени?»
– Ой, ну, счастливо тебе. Пойду, а вы с Руной пока попрощайтесь, не буду мешать.
Грач уложил потник на спину Сиверко и вздохнул, якобы непринужденно.
– Ну? – повторила Руна. – Что не зашёл? – Так требовательно спрашивать умела она одна. – Взял бы и уехал, не сказав ни слова?
Грач потерялся:
– Так дела, работы было много… – стараясь не поднимать глаз и не дышать запахом Руны, он уложил на потник седло, сцепил под брюхом жеребчика передние подпруги, расправил задние.
– Да что ты! Чем же ты занимался? – допрашивала Руна.
– Сама понимаешь. Где сбрую привести в порядок, где седло подправить, – он постарался сказать это легко, но голос выдал его напряжение. – Коня-то обслуживать надо, как ты думаешь!
Зачем-то он натянуто рассмеялся и тут же сосредоточил всё внимание на подпругах и путлищах.
– Понятно, – Руна не разделила веселья.
– М-гм, – сказал Грач, и они замолчали.
Молча Грач надел на шею жеребчика подперсье, пристегнул верхние ремешки к луке седла, нижний ремень пропустил меж передних ног под брюхо, скрепил его одной пряжкой с подпругой. Молчать стало невыносимо.
– А ты чем занята? – спросил, через силу.
– Да какие у меня дела! Это же у тебя всегда новости! – вырвалось у Руны.
Грач спиной почувствовал, как Руна скрестила на груди руки. Пришлось сделать вид, что он разбирает запутавшееся оголовье. Захотелось, чтобы всё это побыстрее закончилось. Поэтому он разлепил губы и напомнил:
– А вы, смотрю, куда-то идете.
– В Приречье, – помолчав, с прохладцей обронила Руна.
– М-гм, – опять сказал Грач.
Ему сделалось вдруг так неловко, так стыдно и за себя, и за свои слова и поступки. Он накинул на коня оголовье, а жеребчик замотал головой и переступил с ноги на ногу. Теперь бы прикрикнуть на него: «Ну-ка, стой, Сиверко!» – да Грач постеснялся Руны. Хотелось раствориться в воздухе. Он заботливо уложил на дёсны коня грызло и удила, подтянул узду, расправил повод и с облегчением услышал за спиной:
– Ну, пока!
Он тотчас повернулся, закивал поспешно:
– Ага, теперь до осени, – и сцепил руки, чтобы ненароком не коснуться ими Руны.
Руна отвернулась и побежала в Приречье. Грачу стоило большого труда не смотреть вслед. Руна скрылась. Его конь был осёдлан. Накопившаяся досада вырвалась вдруг от всего сердца:
– Ах, да что же ты не зашёл, она ещё спрашивает! Смотрите-ка, какой вопрос неожиданный! Зар-раза, – он сжал кулаки, относя последнее слово к себе самому. – Хоть, хоть! – прикрикнул он, вскакивая в седло. – Да пошёл же, пошёл быстрее!
Просека побежала навстречу, потом полетела, потом понеслась. Ещё немного, и он примчится к Залесью. Не желая смотреть на знакомые с детства дома, Грач резко свернул на тропу, что бежала к чаще Навьего леса. Еловая шишка вылетела из-под копыт и звонко щелкнула в дерево. Скоро край Плоскогорья, опушка леса, Велесов луг, а за ними склон, круча – и прощай, родной дом.
– Сиверко ты мой, Сиверко! – Грач на скаку сам себе приговаривал. – Я столько лет мучился. От этой любви, будь она неладна. Вздыхал, на луну выл, как продрогший волк, – и всё зачем? Чтобы мне, как последнему беспутному человеку, объяснили, что я предосудителен и порочен? Разве же это заслуженно, Сиверко?
Сиверко не отвечал. Он вздрагивал спиной и привыкал к новому, жёсткому, пахнущему дёгтем седлу. Тропка под ногами бежала резво, путь был хорошо знаком. Грач не раз срезал здесь дорогу. Он еле успевал отбивать рукой ветви с мокрой зеленью да пригибаться под сучьями потолще…
– Эй, Златовид, это ты, что ли?
Приятеля Грач заметил первым. Лес кончался, скоро начинались обрывы и сразу за ними – дорога на Карачар. Златовид бежал навстречу – как раз от обрывов.
– Ну, так что, я отправляюсь? – Грач еле сдержал коня, поравнявшись.
Злат промычал что-то невразумительное и стал торопливо отряхивать одежду. С куртки и штанов посыпалась, упала на снег, став от этого ещё заметней, бурая шерсть. Злат неуклюже втоптал её в скрипучий наст.
– Со своим псом, что ли, игрался? – Грач был в седле и глядел сверху, а это, как-никак, преимущество в неудобном разговоре. – Я как-то видел его в лесу. Это же волк, а не пёс. Да?
– Да? – бессмысленно повторил Злат. – Ну, ты бывай, бывай, Цветик, до скорого! – он протянул ему руку. – Дороги тебе ровной, без ям и косогоров.
– Как скатерть, – буркнул Грач и, не коснувшись его руки, тронул повод.
За лугом, что стелился над кручей, он чуть-чуть проехался по снежку вдоль обрыва, выискивая, где безбоязненно начать спуск. Выбрал, наконец, участочек и пустил Сиверко под уклон с кручи. Конь заскользил вниз, упираясь и перебирая ногами. Навстречу полетели заснеженные всхолмья и косогоры, заросшие склоны и уступы оврагов и яров. Знакомая фигура промелькнула где-то сбоку, почти вне поля зрения. Грач на ходу оглянулся, выворачивая шею. Да кто же это – неужели Асень?
На первом уступе Грач удержал Сиверко и оглянулся ещё раз. Конь заплясал под ним, а Грач завертел шеей. Певец Асень маячил на самом верху, над склоном, и оттуда, казалось, пристально всматривался в Грача. Даже сейчас, с расстояния полуполёта стрелы, чудилось, что заглядывает он в самую душу. В груди стало горячо – именно в груди, где, наверное, гнездится душа. Асень, чувствовалось, хочет что-то ему сказать, вот он почти шагнул вперёд, вот даже приподнял руку, чтобы помахать Грачу…
– Фьють-фьють! Гоп! – над склоном раздались свист и гиканье.
Сверху, с Плоскогорья, съезжали два всадника – Добеслав и Скурат, подручные Златовида. Первый свернул под уклон, конь его пронёсся по косогору, отсекая Асеня от Грача, в руке у всадника поблескивала сабля. А второй наверху тем временем наступал на певца, вздымая кистень, плеть-многохвостку с убойными гирьками. Асень отступил, закрывая руками голову. Ещё пару шагов, и все трое скрылись из виду.
Грач тронул коня, рассчитывая, что с другого уступа что-нибудь видно. Он даже постоял там немного, растеряно крутя головой, но ничего не дождался. Только снег на склоне искрил – и тишина.
Грач шевельнул поводом, Сиверко шагнул вперёд и вниз. Дорога заскользила навстречу, разбрызгивая по склону снег из-под копыт.
К полудню Сиверко вышел на тракт, укатанный карачарскими обозами. Тракт всё ещё бежал под уклон, теперь, впрочем, отлогий да без ухабов и рытвин. Грач какое-то время по привычке подгонял Сиверко, стремясь скорее миновать все ближние леса и косогоры, но, одумавшись, стал придерживать его. Нельзя же упарить жеребчика, этак и застудить недолго. Всадник ни за что не позволит коню бежать, как вздумается. Часть времени можно гнать его вналёт, зато потом столько же времени сдерживать и вести шагом, часть времени – скорой рысью, и снова шагом и только шагом. Так и чередуют: вналёт – шагом, рысью – шагом. Такими переменками всадник одолеет за день три, а то и четыре дневных перехода.
Семеня под горку, Сиверко встряхивал Грача, а тот, не моргая, загляделся на плывущий мимо них и перламутрово переливающийся под солнцем снег. Мысли текли сами по себе, порой слетая с двигающихся губ:
– Вот, странная это вещь – любовь. Такая… неодинаковая, разная! А всё одним словом зовется: лю-бовь – коротко и даже бессмысленно. Что это такое: лю-бовь? Вот, была у меня любовь-окрыление – когда хотелось петь, кружилась от восторга голова, а сам был как пьяный и какой-то… счастливый? Ну да, счастливый. А была и любовь-ревность – вот уж, не приведи Судьба: в душе огонь, и кулаки сжимались, и, помню, сотворить хотелось что-нибудь безрассудное и злое, что-нибудь доказать, а что и кому, не помню. После и третья любовь была, совсем уж, пожалуй, нелепица: любовь-ненависть, любовь-обида – когда ревность прогорела, а пепел остался. Так он-то, этот пепел, и томил, и морочил до тошноты, а ведь всё равно – это тоже любовью было. Вот и последняя любовь есть… любовь-боль – без ревности, без обиды, просто капли крови выступают на сердце и точат его – молча, без слов, однообразно. Так больно… Зачем мне сдалась она – такая лю-бовь? То счастье, то ненависть, то обида, то боль… Славная была штука – лю-бовь, красивая…»
Вечерело. Снег всё также искрился, а Сиверко сошёл с карачарской дороги и двигался себе по долинке вдоль нижней отрасли плоскогорских лесов.
– Хоть-хоть! Побыстрее, красавчик!
Склоны и само плато Плоскогорья давно пропали из виду. Хотелось развеяться, выветрить из головы отяжелевшие мысли. Грач погнал Сиверко во весь опор, приподнимаясь, как следует, в стременах, когда конь перемахивал через коряги.
– Эх, Сиверко! До чего же мир нелеп этим летом! – прокричал Грач, старательно веселя себя. – Леса зеленеют, а сугробы всё горбятся. Чего ему не тается, снегу-то! Таял бы себе…
Он резко умолк. Ему на время померещилось, что впереди причудливо играют лучи вечернего солнца. Что-то вдали как будто обрывалось, так масло ножом отсекают. То ли свет заканчивался, то ли мир круто менялся. Сиверко сбавил ход, затрусил мелкой рысцой и вконец заартачился. Грач и сам заколебался, заёрзал, но тут же заторопился и в нетерпении погнал жеребчика, чтобы скоро осадить его на самом краю белого искрящегося мира.
Посреди лесной поляны кончался снег. Словно кто-то начертил ему пределы, плугом пропахал здесь межу. Грач не выдержал и соскочил с коня, снег привычно всхлипнул под ногами. Он переступил межу. Земля на той стороне была обычной, воздух тоже – не свежее, не жарче. Грач сел на корточки, коснулся травы и снега. Снег был холодным, мокрым и липким, трава – мягкой, тёплой и колко-шелковистой.
Вот, если поглядеть строго вдоль края снега, то видно, как неосязаемая межа исполинской дугой уходит сквозь редкий лесок всё дальше и дальше. Медленно-медленно загибается она, стремясь где-то замкнуться и окольцевать собой, как ведьминым кругом… что? Плоскогорье?
Грач слепил снежок и забросил его в траву. Снег плюхнулся в середину листвы одуванчика и на глазах истаял.
– Бр-рр-рр! – затряс головой Грач, будто гоня наваждение.
Он оглянулся. Позади по-прежнему торчал из сугробов редкий лесок, белели заснеженные овражки, косогоры и перекаты. Отсюда, с зеленой летней травы, снег этот казался рассыпанной по лесам и оврагам солью.
«Солью? – усмехнулся Грач. – Откуда она здесь? Кто её столько… наплакал?»
– Сиверко!
Жеребчик, сколько бы не мешали ему удила, уже пощипывал зелёную травку.
– Нам некогда, поехали! – Грач вскочил в седло, натянул повод.
Снова побежала дорога, снова замелькали деревья. Теперь без снега. Когда-то в этом лесу жили лесовики и навии. Лес этот считался нижней отраслью верхнего Навьего леса, хотя и был отделен от него другими урочищами. Теперь Навий лес пустой, Рода Людского здесь нет и в помине. Сиверко спокойно прядает ушами, едва заслышит то белку, то птицу. Белка и птица враз бы умолкли, окажись неподалеку хоть одна навия, или лесовик, или иной кто-нибудь из лесного народа. Живность всегда перед ними смолкает, зверьё, как и домашний скот, любит лишь человека, а иных боится – как-никак, нечисть.
В лесу смеркалось и вечерело. Становилось неуютно и страшновато. Нет, не оттого, что из-за дерева вылезет леший, а из-за оттого, что как раз и не вылезет – некому. С лесовиком договориться можно, а с медведем – попробуй-ка.
Зверя одомашнить лесовикам во век не удастся. Повелевать охотой, кочевьем или кормежкой зверя – это одно, а жить рядом с ним, ухаживать – совсем иное. Тут человечья природа нужна, чтобы зверей приручать. Зато лесной народ приручил деревья. Это правда, в порядке вещей, чтобы дерево лесовику поклонилось или по приказу перешло с места на место.
Над головой, как нарочно, со свистом крыл и с противным шорохом пронеслась летучая мышь. Грач разглядел мерзкую мордочку с раззявленным зубастеньким ртом.
– Тьфу! Вот уж кто нечисть так нечисть!
Пора подумать и о ночлеге. Грач отыскал уютную полянку или, скорее, прогал среди деревьев. Спешился.
– Мы спать будем тут, Сиверко, – сообщил Грач, расседлывая конька и вынимая из сумы попону с капором. – Считай, что мы в ночное пошли. Хочешь, травку покушай. А я сейчас костерок разведу.
Грач укрыл жеребчика попоной, набрал хворосту и палок, развёл огонь. Согрел сначала руки и полез в сумку за припасённым ужином – куском хлеба, варёной морковью и четвертью кочана капусты. Сиверко через его плечо потянулся и цапнул губами два листа с кочана.
– Уйди отсюда! – Грач оттолкнул его голову. – Для тебя полный лес травы, а ты лезешь.
Ночи стали уже недлинными, но здесь, в глубине леса, оставались тёмными. Грач торопился быстрее заснуть, пока костерок не испустил последние языки и не сдох.
– Сиверко, – шёпотом позвал он: кричать ночью в лесу было боязно. – Хорошо бы нам завтра до людей дойти, а? А то припасов не много…
Где-то в лесу хрустнуло. Грач поднял голову, но ничего в черноте ветвей не увидел. Сиверко – весь в отблесках костра – насторожился, вытянул шею, поднял морду и, подбираясь поближе к огню, утробно промычал, как иногда мычат лошади.
– Что там? а? – Грачу сделалось не по себе.
В этот миг через всю их полянку, едва не опаляясь костром, пролетела огромная мохнатая тень. Зверь пронёсся, разбросав собранный хворост и круша своим весом ломкие сучья. Сиверко шарахнулся от него, заголосил по-жеребячьи, припал на задние ноги, чтобы вскинуться и лягать передними. Грач вскочил, клацая зубами:
– Волк! Ты видел его, Сиверко?! Это же – волк! – закричал шёпотом. – Здоровенный волк! А масть, ты видел его масть? – на мгновение зверя осветило костром. – Он рыжий, этот волк. Бурый!
Сиверко что-то отвечал – то ли всхрапывал, то ли подвывал.
– Бурый, бурый! – настаивал Грач, а дрожь ещё колотила его. – Бурый как тот, Златовидов. Он, несомненно он. Ведь и шерсть его Злат с себя стряхивал, – Грач опустился на траву.
Громко и отчётливо хлобыстнули удары бича. Взвихрилась с деревьев листва, затряслись макушки у елей. Что-то тёмное пронеслось над лесом. С первым порывом ветра Грач вжался в землю. Раздался вой – вой не одинокого волка, но многих, многих зверей. Стало слышно, как мимо бежит целая стая. Шумели растрёпанные ели, а за их ветвями в издыхающих сполохах костра Грач видел мчащиеся вслед бурому волку тени. Снова где-то хлестнул бич, точно некий пастух гнал своё стадо, и опять, как будто отвечая ему, завыли волки. Через мгновение ветер стих, а вой волков слился в дали с шумом деревьев, и стало казаться, что всё случившееся – это лишь морок, игра ночного страха.
Вот только старая бабкина сказка не лезла из головы. Сказка-быль о Волчьем Пастыре, что будто бы гонит кнутом волчьи стаи на прокорм в новые страны. Тогда по окрестным землям слышатся удары его кнута, а там, откуда они раздаются, готовится зверью пожива – множество убитых на новой войне людей…
Стуча от страха зубами, Грач полез за пояс, где в загашнике лежали нож, огниво и Огнич, материнская благословенная свечка. Поднёс фитилёк к костру, и воск затрещал, разбрызгивая горячие капли. Свеча вспыхнула.
– Страшненько на душе стало? – явилась в огне Саламандра.
– Страшно, – признался Грач и заторопился: – Это тот самый волк, да? Как ты считаешь? Ну, тот бурый волк, которого я у стрелков видел?
Саламандра молчала. Огонь на свече замер и даже не колыхался.
– Ну, это ясно. Ясно же, что волк – тот самый, – Грач сам себе ответил. – Стрелки его прячут, я видел. А Златовид бурую шерсть с одежды стряхивал.
– Ты не о том рассказываешь, – перебил его Огнич. – Ты лучше о том говори, что на сердце лежит.
Грач помялся. Глянул мимо Огнича в лес, плечами пожал:
– Не знаю… Пустота у меня там. Или нет – пустота не болит. Боль, там боль у меня осталась. Мысли лезут унылые. Бабкина сказка привиделась, про войну и про Волчьего Пастыря… – Грач запнулся. – Как ты считаешь, я это на самом деле увидел?
– Ты просишь, чтобы я раскрыл тебе то, что тебе захотелось понять. Но, дружочек мой, чтобы понять и принять что-то весьма важное, надо для начала освободить в себе для него место.
– Как это? – опешил Грач. Горячий воск со свечи стекал ему на пальцы.
– От чего-то в самом себе отказаться. От того, что сейчас кажется тебе весьма важным. Найди это в себе. Сломай. Сокруши самого себя. То понимание, которого ты ждёшь, не презирает сокрушенного.
Грач долго стискивал свечку, требовательно вглядывался в огонь, а потом выдавил напряженно:
– Так это Руна – моя жертва? Огнич! Я же просил поддержки, а ты…
– Да не Руна! – прервала его Саламандра. Огонёк взметнулся свечи и яростно замигал. – Не Руна, а кое-что в тебе самом. – Воск потрескивал, пахло тёплым и сладким дымком. Ящерка взметнулась вверх по столбику фитилька, а фитилёк затрещал и обломился. – Видишь? Ну, начни с малого. Ну, хотя бы… Вот как тебя теперь называть? По-прежнему Цветиком или по-новому Грачом?
– Да как захочешь… – Грач напрягся и втянул голову в плечи.
– Так значит, ты будешь Грачом, – Саламандра как будто отменила старое имя.
– И что теперь? – потребовал Грач. – Что я должен понять? Ах, да, про Златовида и бурого волка.
Дух огня, глядя прямёхонько в небо, мерно покачивал головкой. Грач сунул руку за пазуху и выхватил письмо Златовида.
– А знаешь, Огнич, что я сделаю? А я вскрою письмо, и пойму всё, что нужно!
Саламандра сперва и вовсе не отвечала, а под конец заметила с равнодушием:
– Если хочешь, то вскрой. Поймёшь что-нибудь важное – позовёшь и расскажешь, – и так исчезла.
Грач задул пустой огонёк. Повертев письмо, нашёл восковую печать со вздыбившимся конём, расфыркался:
– Вот же показушник. Как же, он же теперь – Злат Плоскогорский.
Он подогрел печать над огнём и легко отодрал её от бумаги. На печати немного оплавились задние ноги и хвост коня, да наплевать – не заметят. Грач развернул грамоту.
«Златовид Плоскогорский, наместник Гвездояра Смородинского – вождю стрелков досточтимому Вольху Всеславному, власть держащему на Пучае и Жаль-реке: радоваться, пребывать в добром здравии, и да сопутствуют тебе в боях – победы! Чёрную Грязь и Калинов Мост с боями пройдя, поднялся по Смородине до истоков и претерпел сурово под Шеломянем от племен лесного народа.
Ныне же, обосновавшись в мирном Плоскогорье у коневодов, я с тщанием и заботой наладил кузнечно-оружейное дело, что добрые плоскогорцы восприняли с радостью, свойственной их простосердечному нраву. С особой гордостью отписываю тебе, что есть среди коневодов не только верные и прилежные трудолюбцы, но и пламенеющие огнём сердца, давно в томлении ожидавшие твоего призыва и воинского клича, дабы, привстав в стременах, порадеть об очищении Рода Людского. Извещаю тебя, что не позднее как осенью приведу к тебе отряды конных и вооружённых плоскогорцев да в придачу боевых коней, коими буду снабжать тебя ежегодно.
Друга моего любезного шлю к тебе, Всеславный, с письмом, приветь и сбереги его, а действуй по своему усмотрению. На цвет волос его не взирай – друг не мастью чист, но тем, что рядом вскормлен и рос подле.
Слава да не оставит тебя и да поможет тебе во властительстве!»
Почерк у Златовида скор и неразборчив. Еле дочитав, Грач свернул грамоту и прилепил ещё тёплую печать наместо. Пустые слова! Поставлять боевых коней ежегодно. Надо же такое пообещать. Как будто кони как цыплята из яиц вылупляются!
– Сиверко! Это что же, нас с тобой за тридевять земель с этой глупостью послали?
Грач помрачнел, нахмурился. Так неужели всё дело в том, чтобы спровадить его из Плоскогорья подальше от Руны? Да нет же, на мелкую подлость Злат не способен. На большую – да, но не на мелкую. «Друга моего любезного шлю к тебе, Всеславный с письмом…»
– Сиверко! А на цвет волоса его не смотри – друг не мастью чист! Он рядом вскормлен и рос подле! Это не про меня, Сиверко, это про бурого волка. С ним и настоящее письмо.
Сиверко внимательно вслушался и опять тревожно, почти по-кобыльи, промычал, будто над жеребенком, да снова вытянул шею туда, куда умчался ещё чуемый им бурый волк.
Подраненный сокол кружил над степью… Сокол ли? Или это чужие мысли во сне кружатся… Подраненный сокол искал над курганами, где бы сесть и залечить пробитую грудь. Далеко внизу серой царапиной на коже тянулся по степи тракт.
По пыльному тракту бредут через степь толпы вооруженного люда. Ни цели, ни командования, ни пропитания. Толпы без прошлого, без будущего. Пыль волоклась за ними по обочинам тракта. Усталые ноги в сбитых подкованных сапогах передвигались всё тяжелее. Пыль садилась на потные лица, на опущенные плечи, на железо доспехов.
С шорохом взлетела с кургана журавлиная стая.
– Уххх… – просипел ратник. – Курганы неладные. Хто их насыпал. Брешут иль нет, что тута ратников заховали – годов с тыщу назад?
– Заткнись, Плахта. Без тебя тошно…
Казалось, что над курганами дрожит воздух. Да враки это. Воздух дрожал там – в пустыне за Степью. А здесь жар не тот. Просто глаза слабеют… Ратник щурился, напрягал зрение. Эх, кабы не джинн, что оглушил его тогда по шлему, видел бы и теперь как молодой.
Легкоконный отряд человек в десять или двенадцать плавно вытекал из-за кургана.
– Гляди, хто это там? – ратники брели, не останавливаясь.
Отряд подлетел, завился на месте, как пылевой смерч в пустыне. Всадники все молоды, почти мальчишки, а верховодит ими вожачок лет двадцати. Одеты славно, с иголочки, как домашние. У вожачка жёлтый чуб из-под шапочки вьётся. Светлая кобылка так и гарцует, так и гарцует.
– Прям Конёк, а не парень! – не сдержался ратник.
– Конёк? – звонко выкрикнул вожачок. – Ну, пусть так. Пусть Конёк. Вы, гляжу, полк Дубка Гвидоновича?
– Дубка мы к дубу прибили, – посмурнел ратник.
Конёк присвистнул. Заломил шапку.
– А сам-то кто, боец? И кто у вас за главного?
– Я-то – хто? Рядовой боец Плахта. У нас Окунец полковничает.
Конёк зорко-зорко оглядел ратников. Плащи, бечёвкой привязанные к остриям шлемов, чтобы мало-мальски защищать от солнца. Трофейные доспехи с замысловатой вязью пополам с пылью и ржавчиной. У многих дэвские мечи или сабли. Сразу видно, что ратничий полк из-за Степи вышел.
– Война-то шесть лет как кончилась. Где маялись? – тихо бросил с седла. Мрачновато, всё понимающе – как своим.
Боец Плахта сбился с ноги, поднял голову.
– За Горами, – выговорил настороженно, – за Сорочинскими. Приказ был тамошних усмирять – и дэвов, и людей, кого придётся.
– Лихо досталось? – грамотно пожалел Конёк, и Плахта взвился как огонь:
– Подло, а не лихо! За Степью и то почётнее было! Продали нас, за спинами сторговались, начальство на мир пошло. За что тогда воевали? Эххх…
– Что? – не отставал Конёк.
Степь лежала от края и до края, куда ни повернись. Серая царапина тракта перерезала её. Полк с котомками за спинами и с поржавевшим оружием без цели брёл по степи.
– За то Дубка и казнили, – разговорился Плахта. – Пришли до него с бечевой. Он всё и понял. Руки ему скрутили, за шею удушили. Уже опосля мёртвого к дубу гвоздями приколотили. Чтоб всякая опричнина это видела! Окунца выбрали…
Их побоялось распустить по домам Братство. Отправило подавлять бунт. Теперь им уже новая власть не доверяет. Сборище вооружённого народа бесцельно бредёт по степи.
– Где Окунец-то ваш? – Конёк мотнул жёлтым чубчиком.
Под вечер Конёк, поднявшись на курган, мог видеть, как пешее войско развёртывается с маршевого перехода на ночлег. Дозорный полк, за ним сторожевой, за ним передовой. Как двигались по степному тракту, так теперь и рассаживались. Камнемётный полк, левой руки, большой, полк осадных башен, правой руки, тыловой. Кто шёл впереди, тот садился ближе к тракту – им раньше выступать. Дальше – запасный полк, кухня, хозяйство. Жёны и дети-полукровки.
Конёк поёжился: там были сотни чумазых детей-полукровок. Там же плелись за войском их мамаши – пери, дэвии, джиннии, то ли пленные, то ли прибившиеся ради пропитания. Нечисть. Стало темнеть, загорелись костры. Ратники ложились на землю. Кое-кто собирал шалаш из веток кустарника и плаща – на случай дождя. Вылинявшие палатки были лишь у начальства. Где там Окунец-то их? Во-он, белая палатка в становище большого полка.
Окунец оказался толстым и измученным служакой. Пояс с трудом сходился на брюхе, а нестиранная рубаха трещала по швам. А ещё – рыхлые щёки и застывшая в глазах тоска пополам с ужасом. Вечный заместитель. Он и не рад, что войсковые выборы повелели ему «полковничать». Впускать к нему Конька охрана не хотела, но Конёк назвался посланцем, и те впустили. Либо поняли, либо догадались, кто он и от кого.
В палатке было сыро и пахло сопревшим войлоком. Чадил огонь в переносной лампе. У Окунца сидели ещё трое. Разговаривали. Окунец упрямился. Одного из трёх Конёк признал: это Ставр, такой же, как он, посланец, но от других управителей. У Ставра короткая стрижка, бородка и нос с горбинкой. Кажется, он – буянец, у него характерный раскатистый выговор. Конёк после каторги ненавидел, но вынужденно терпел буянцев.
– Триградье даже и не вспомнит никакого Дубка Гвидоновича, уверяю тебя, – успокаивал Окунца ровненьким голосом Ставр. – Не важно, выборный ты или приказный. Тебя оставят на должности. Триградье не вспомнит воинских… гм… нарушений, совершённых полком за Горами. Бойцам будет объявлено прощение и забвение обид.
– Прощение? – ахнул Окунец. – Да за что прощение-то? Бойцы делали то, что им говорили.
– Вот-вот-вот, – улыбался Ставр. – Так и будет записано в судебных постановлениях. Вас разместят в закрытых воинских поселениях. Вы понимаете: с падением прежней власти стали твориться бесчинства и беспорядки, поэтому Триградье не может распустить вас немедленно. С вами останутся ваши приобретённые… гм… жены. И дети. Конечно, придётся пройти дознание, нет ли среди них соглядатаев.
– Среди детей, да? – возмутился Окунец. – Это что – опять опричнина?
– Нет, и как полномочный посланец трёх городов-побратимов – Вадимля, Калинова Моста и Карачара – уверяю, что карательных мер больше не будет.
– Полк больше не пойдёт в поселение, – уверенно сказал Окунец. – Так уже было, когда мы пришли из-за Степи.
Из тени высунулся другой посланец, постарше и поугрюмей. Конёк нахмурился: где-то и с ним пересекались пути. Никак не мог вспомнить имя.
– Ты меня послушай, Окунец-воевода, – заговорил он. – Не будет тебе ни поселений, ни опричнины. Я размещу воинов в Шеломянских сёлах, где вы станете вольными хлебопашцами, готовыми, если надо, подняться с оружием в руках. А ты, Окунец, сможешь считаться их Писарем…
– Не слушай его! – горячась, перебил Ставр. – Это Годин из Шеломяня. Они у себя Братство восстанавливают…
– Да, Братство! Но без Опричнины, – отрезал Годин. – В этом клянусь!
Конёк хохотнул, и его заметили, третий посланец потянулся к нему из тени на свет, сверля его глазами. У третьего посланца запавшие глаза и крючковатый нос. Конёк силился узнать его и вспомнить имя – это даст преимущество в разговоре. Не узнавал. А время уходило.
– Поклон вам от Вольги Всеславича! – Конёк опередил события. Годин и Ставр вздрогнули. Окунец нахмурился. Третий посланец сощурился и вытянул шею:
– Это ты?… Что ли?… – голос у него тихий и противно сиплый. Конёк неуютно повёл плечами и поправил затейливую шапочку, выпуская клок отросших жёлтых волос.
– Ну я, – признался. Он вспомнил посланца: это Вышезслав, первый ушкуйник реки Пучая и самый жестокий из речных воров.
– Вольга-то твой на Смородине… работает. А здесь у нас Пучай-батюшка ближе, – просипел Вышез, вольный хозяин реки Пучая. – К вольным удальцам всякий пойдёт. Охочии люди в полку всяко найдутся. У нас сытно, славно. Кораблей на реке много, купцов немеренно, да еще – караваны со Святых Гор с рудой и золотом.
Молодой Ставр засуетился, подсел ближе к старому Годину, заёрзал:
– Это воры, это просто воры. Тати, ушкуйники. Годинушка, – зашептал он, – если мы с тобой не объединимся, то все войска к ним утекут. К ворью этому, к каторжникам.
Вот тут-то, в это самое мгновение, Конёк впервые в жизни услышал, как где-то далеко-далеко хлопнул будто бы пастушеский бич. Громко хлопнул, раскатисто, как гром. Да и не в селе хлопнул, не в степи и не за курганами, а словно прямо в тучах на небе. Конёк осторожно склонил на бок голову. Прислушался. Звук больше не повторился. Только посланец Годин вдруг забормотал себе под нос:
– Ох, Долюшка-Судьбинушка, обойди бедой…
«Ратничья молитва! – Конёк задохнулся. – Вот оно что! Они все здесь – ратники», – он и не ведал, что братский наставник Годин тоже отслужил своё за Степью. Конёк приосанился. Он выиграл. Вышезслав даже не понял, где и когда он проиграл.
– Нет, батька Вышез, не пойдут они к тебе. А к Вольге, вольному лучнику, согласятся. Вольга не ушкуйник. Он – воин. Он к себе бойцов зовёт, чтобы боец был в почёте, а не в презрении и забвении. У Вольги всякий ратник своему клинку применение отыщет.
Тут толстый Окунец хлопнул кулаком по чурбану, что заменял стол, и вскочил на ноги, грузно и отдуваясь:
– Что, опять воевать? – ахнул визгливо, как баба. – Хватит! Навоевались! Все вон отсюда. Домой мои полки пойдут. Домой! По сёлам, где прежде жили.
Конёк осклабился, как мелкий зверёныш, хохотнул и выскочил. Из палатки Окунца уходили посланцы.
Поздно вечером, когда стемнело и иного света помимо костра и звёзд не было, Конёк сидел у огня с ратниками. С бойцом Плахтой. С бойцами Отпором, Жадятой, Судимом.
– А у Вольги ветер как здесь в бока не дует. У Вольги вокруг стана – тын деревянный. Ветру не разгуляться. Тепло. Дров довольно.
– На ратном поселении, стало быть… – с недоверием тянул Плахта.
– На каком поселении, если вход и выход свободные? Не-ет. У Вольги Всеславича бойцы довольные, сытые. Крупа сечная есть, солонина, опять же рыба – река-то ведь рядом.
– Да хто ж признается, что на поселении голодують…
– Заладил своё – на поселении да на поселении… Ты глянь на себя, потом на меня – как я одет? Вольге Всеславичу купцы содержание приносят. Потому как уважают его и боятся, понятно? Богачи по всей Смородине ему почёт выказывают. Сам видел.
– Чего видывал-то? – голодные ратники подняли головы.
– Купчина у него под окнами со слезами молил: «Возьми, – говорит, – шубу горностаеву. К чему она мне теперь?» Ей-же ей, Судьба-Доля, со слезами молил! – побожился Конёк. – Хвост богачам Вольга сильно прижал. Вот потому и со слезами. «А мне, – отвечает, – твоя шубёнка без надобности. До ветру в ней ходить, разве что!» – и швырь её мне в оконце… Я же при Вольге служу, говорил я, нет? «Отдай, – велит, – тому бойцу, кому больше всех надобна». Я и отдал.
– Врешь ты всё… – разуверились бойцы.
Зашелестел на ветру ковыль по степи. Вдалеке маячил курган, луна нетвёрдо бросила белёсое пятно ему на макушку. Сероватые тучи без очертаний нечётко плыли во тьме по небу и час от часу скрадывали звёзды.
– Конечно, вру… – повинился Конёк и повесил голову. – Трудно ему, Вольге-лучнику. Помощь теперь нужна, – Конёк тяжело вздохнул. Ветер зашевелил ему, мальчишке, жёлтые волосы.
У старого Плахты сжалось сердце. Такие же вот, неоперёныши, умирали у него на руках за проклятой Степью. Тяжело умирали, некоторые вот также перед смертью врали, хорохорились…
– Чего он хочет-то, Вольха твой? – выговорил.
– А хочет, чтобы тебя, ратника Плахту, люди ценили, уважали. Старые начальники-то ценили вас, ратников?
– Это при Дубке-то? Хххаа… – задохнулись смешком ратники.
Конёк поднял голову и сквозь задиристый жёлтый чуб посмотрел на плывущие над облаками звёзды. Или это облака под ними плывут? Кто ж теперь разберёт…
– Как, говорите, Дубка-то вашего казнили?…
Вот тут второй раз где-то между облаками и звёздами грохнул пастушеский бич. Конёк подскочил. Ратники вздрогнули. Звук удара бича раскатисто поплыл над землёй, хотя эху не отчего было в степи отражаться.
– Ой, Волченька кнутиком бьёт, – тихонько запричитал Плахта. – Перед той войной такоже было: волки целыми ордами без всякого разбою бегали. Ни коз, ни овец не резали – всё туда бежали, на будущую войну, на поживу. Набольший Волк их туда кличет.
– Да не волк это, – опомнился Конёк. – Вольга вас к себе зовёт.
– Вольха, Вольха… Что он нам.
– Вольга волю даёт.
– Во-олю… Какую же волю, которую?
– Волю, – голос у Конька посуровел. Железишко в нём появилось. – Волю от начальства, от властей и от себя самого.
…В ту ночь, под самое утро, выборный воевода Окунец пробудился от шороха и голосов за пологом палатки. Пришедшие не таились, хотя действовали без лишнего шума. Окунец подхватил меч… но какая-то безнадёга сковала его и внушила отложить бесполезное теперь оружие. Предыдущий-то, говорят, тоже не сопротивлялся…
Окунец откинул полог и вышел в серебристый холод. Под звёздами стояли ратники. Одного Окунец вспомнил. Это рядовой боец Плахта, самый примерный и надёжный в полку. Плахта сузил глаза и сжал губы. Руками он пружинисто натягивал, пробуя на прочность, бечёвку.
– До… …шка-Судь… – Окунец шевельнул губами и сам протянул Плахте руки.
Сзади ему набросили на шею удавку. Откинувшись, Окунец только и успел разглядеть, что лихой жёлтый чуб да усмешку-оскал.
Где-то между облаками и звёздами выли волки. Погонщик гнал их туда, куда только сам ведал.
Сон или явь? Чья-то быль? Уже не легкокрылые кони скачут. Бурые волки мчатся по лесам и степям…
Вот и редкие дубравы закончились. Даже ельник с осинником остались далеко за спиной. Чаще попадалась ольха, ракитник и слащаво опрятные берёзовые рощи. Берёза – дерево не местное, пришлое. Издревле здесь росли только дубравы да ельники, но потом лесной народ привёл из полуденных стран прирученные им странные деревья с белой корой. Наверное, люди когда-нибудь и к ним привыкнут, и даже полюбят…
А пока Грач ехал по березнячку, не то чтобы посвистывая, но всё же подвывая себе под нос бодрую песенку. Где-то здесь должна уже скоро показаться река Молочная. Грач за дорогой почти не следил, а больше положился на Сиверко, рассчитывая, что дорогу к реке конь теперь и сам найдет. Сиверко не напился вдоволь со вчерашнего дня, лишь пожевал траву с росой, поэтому воду отыщет быстрей человека. А там, на реке, Грач и определится, ехать ли ему вдоль берега вниз по течению до переправы либо переправляться на другую сторону немедля.
Хорошо бы спросить потом у кого-нибудь, как за переправой выйти к Жаль-реке, да притом к левому её берегу, чтобы попасть к вилам, в их селения, а не куда-то ещё… Про Вольха и про стрелков ему лучше не говорить до поры до времени.
«Вот, зачем, скажите на милость, Злату гнать меня в такую даль? Может, и нет никакого второго письма? Может, я что-то насочинял? Да полно! Не приснился же мне бурый волк! Да и стрелки меня до самых обрывов провожали. Будто следили. А тут ещё Асень что-то собирался сказать, да передумал. Хотя, с чего бы самому Асеню со мной разговаривать? Ишь, разбежался…»
– Разбежался, Сиверко, тпр-ру! – он натянул повод, сдерживая жеребца, рванувшегося вскачь оттого, что почуял впереди воду.
Конь всегда чует воду раньше человека! Слух у лошади острее даже кошачьего, а нюх тоньше собачьего. Скоро и Грач, наконец, услышал, как журчит под берёзами Молочная река. У воды Грач спешился, но жеребчика сурово оттащил прочь:
– Да ты погоди, напьёшься ещё! Вытерпи, остынь сначала. А то нёсся как угорелый, разгорячился мне тут.
Напоив, наконец, остывшего коня, Грач, глядя на реку, потянулся, будто раздумывая, потом быстро разделся догола и бултыхнулся в воду.
– Ух ты, она же тё-опла-ая! Эй, Сиверко, брось! Потом пожуёшь травку. Иди-ка сюда! Да леший с ним, с седлом-то! Высохнет, не пропадёт.
Сиверко не пошёл. Только укоризненно храпнул, дорожа сбруей.
– Ну и зря, жадина! Хозяйское добро жалеешь, – Грач оттолкнулся от дна, поплыл. Ой, как же здорово… Вода в Молочной реке студёная, да ласковая. Она то обнимала и ласкала его, будто до любви охочая, то остужала, будто гнала от себя.
Вдоволь наборовшись с водой, стал он было выползать на карачках на мелководье, как тут нечто огромное, скользкое нырнуло под него, подсекло, и Грач плюхнулся всем телом на здоровенную рыбину, придавил её к мелкому дну животом и грудью. Рыба затрепыхалась, разбрызгивая воду с песком и илом. Грач ухватил её рукой, казалось бы, удачно – под самые жабры, но рыбина так отчаянно вырывалась всей тушей, что он едва её не выпустил.
Рывком перевалился набок, жестче стиснул пальцы на жабрах, давя своей тяжестью рыбу и зарывая её в донный песок. Вскинул другую руку, ища хоть за что-нибудь уцепиться, чтобы вытащить на берег себя и рыбу. Но та яростно забила хвостом, плеща по его спине и бокам, и стала выскальзывать.
– Сиверко, да помоги же, не стой истуканом!
Жеребчик меланхолично глядел на хозяина, потряхивая уздечкой и гривой. Грач изо всей силы потянулся, только бы достать, дотянуться до одежды, до пояса… ох!… а там, на поясе… ох!… его нож. Кончиками пальцев он подцепил нож… Схватил, ударил! Рыбина трепыхнулась, окрашивая воду красным. Ударил ещё – теперь прямо за жабрами. Застыла, замерла. Обессиленный, он выпихнул рыбу на берег и сам кое-как вылез.
– Ой, что же я едва не натворил-то, дурак, – вдруг запричитал он. – Я же мог сам себя – ножом-то. Я ведь лежал на ней – животом и грудью. Я ведь самому себе ножом под бок бил…
Сиверко тихонько заржал, соглашаясь.
– А ты что? Ещё смеёшься! Я же просил помочь. Теперь, вот, рыбу стану печь, а тебе не дам ни кусочка!
Он скоро развёл огонь, взялся запекать рыбину прямо в чешуе, непотрошёную. Когда она испеклась, дразня ему ноздри, Грач отломил лишь кусок, а остальное спрятал на завтра. Потом он лежал и молча глядел в небо. А вдруг Сиверко заворочался и фыркнул, тихонько заржал. Настороженно вытянул шею и точно ощупал губами воздух.
– Отстань, слышишь меня? – отнекивался осоловевший Грач. – Лошади не едят рыбу.
Жеребец настаивал. Он даже топнул ногой и опять зафыркал. Грач неохотно поднялся.
– Твоя взяла. Пора и ехать.
Он стал натягивать штаны. Потом рубаху. Потом укладывать в сумку с печёной рыбой. А конь весь извёлся, не выдержал, протяжно заржал и забил копытами.
– Иду я, иду, – стал раздражаться Грач. Закрепил у седла сумку, поднялся на Сиверко… и ахнул.
В полуполёте стрелы маячила бурая волчья спина. Бурой тенью волк скользил по-над косогорами, а рыскающий его бег был плавен и, кажется, уверен. Будто мчался он по берегу Молочной реки – всё вниз и вниз, вдоль течения – с какой-то чётко обозначенной целью.
– Так пошёл же, пошёл! – закричал Грач, распаляясь.
Разъярившийся конь с места рванулся вскачь. Грач нахлестывал его руками и подгонял сапогами. Волчья спина приближалась. Уже стали различимы подпалины на бурых его боках.
Волк был в ошейнике, а к ошейнику накрепко привязан долгий и тугой свёрток. Внезапно бурый волк отпрыгнул. Прочь от воды, прочь от берега – туда, где рытвины и ухабы. Волк перемахнёт их легко, не замешкав, а погоня собьётся со скока.
– Уходит! Уходит! – Грач загикал, тоже беря в сторону, влево, прочь от берега.
Опершись на луку седла коленями, он весь подался вперёд, к самой шее коня, чтобы разгрузить ему задние ноги.
– Давай-давай-давай! – обезумев от скачки, завизжал Грач.
Волк нёсся впереди, и Сиверко перемахивал ухабы и рытвины. Грач приподнимался в стременах, чтобы не подскакивать в седле и тяжестью своей не вредить коню позвоночник. Ещё бы чуток, ещё бы один шаг, ещё пол шага – и волка можно будет коснуться носком сапога.
Тут волк на бегу вывернул шею, оскалил пасть и угрожающе рявкнул. Сиверко шарахнулся – Грач еле усидел в седле, едва не вывалился. Жеребчик, струхнув, припал на задние ноги, засуетился, заплясал на месте. А волк остановился, волк встал. Волк был холоден и равнодушен.
Зарвавшийся охотник только теперь понял, что против волчьих клыков он – безоружен. Волк был огромен. Шерсть на его загривке начала медленно подниматься. Сиверко, захрапев, попятился. Еле сдерживаемый Грачом, он закружил на месте, кося назад тёмным глазом, и заспешил мелкой рысцой в сторону. Волк подобрался, в два скока пересёк коню путь и снова замер. Занял стойку, оскалился и зарычал – глухо, угрюмо, протяжно, не сводя жёлтых глаз со всадника.
У Грача похолодели коленки. Волк… это, всё-таки, волк. Он будто не из этого мира. Он будто потусторонен.
«Ты лучше не подходи, – сказали жёлтые волчьи глаза. – Ты – человек, ты мне чужой. Стена, глухая стена между нами. Ты от огня, от печки, из дому. А я – от стужи, от ночи, из лесу. Не зли меня. Если можешь, уйди своей дорогой».
– А п-пошел ты… – Грач клацнул зубами, прикусив язык. – Пошел… со своим письмом, со Златовидом и с самим Вольхом, – он силился храбриться, а сам ощупывал повод, чтобы проскакать мимо волка тихо-тихо… куда же? А хоть бы и домой.
Здесь бурый волк ощетинился. По широкой его спине пробежала волна шерсти. Не сводя глаз с человека, волк обошёл его по кругу – Грач лишь как филин крутил шеей, следя за волком, – встал позади, в трёх скоках коня, и утробно рявкнул, чавкая пастью.
Сиверко взлетел на дыбы и понёсся, не разбирая дороги, вперёд и вперёд спасать свою драгоценную разномастную шкуру.
Вскоре до Грача дошло, что волк погнал его не как попало, а всё по той же прежней дороге: вдоль берега, вниз по Молочной реке. Путь домой был как будто отрезан. Спустя час времени оба они – конь и всадник – успокоились. Волк остался далеко позади. Сиверко уже не спешил, брёл медленным шагом. Река с шелестом бежала вперёд, щекоча илистый берег.
Волшебное марево алело в воздухе. Марево вечерней зари, когда солнце, словно истомившись за день, изливает оставшуюся негу на белый свет. Белый свет поначалу розовеет, а после алеет. Алеет всё небо, пунцовеют облака и стыдливо прикрывают тайну заката. В алом свете окрашиваются зарей и светятся красотой вечернего неба воды Молочной реки. Зачарованный глядел Грач, боясь вздохнуть и прошелестеть веткой, чтобы не потревожить закатную негу. Скрытый тяжелыми и густыми ветвями глядел он и видел перед собой чýдное – будто неземное – видение.
Она была обнажена. Свет заката и ручейки влаги струились по её плечам и груди. Она зачерпывала речную воду, вздымала руки к пламенеющему небу, и струи ниспадали ей на волосы, плечи и спину. Русалка кружилась, запрокинув к облакам голову и заламывая поднятые руки. Она то погружалась в червлёные воды, то восставала из них – воздушная, хрупкая. Тонкие руки омывали ей лицо, грудь, волнующе пробегали по животу и с нежностью сбегали на стройные бёдра.
Она кружится на песке. Только что она плескалась в водах, а теперь воды плещутся одни, рядом. Освещённая алым закатом, она кружится на влажном песке не в самозабвении, а медленно и в сладкой истоме – так, что околдовывает всё вокруг чарующей своей негой. Она легка и невесома. Грачу мнится, будто в шелесте речных вод и в шорохе чýдного танца русалки слышит он неведомую музыку заката. Волшебная музыка танца и речного прибоя окутала его и проникла ему внутрь, в душу и сердце, заставляя его трепетать и сдерживать взволнованное дыхание.
На мгновение, всего на одно мгновение, русалка взглянула – и словно увидала его, скрытого зарослями, улыбнулась ему и исчезла, скрывшись в водах, в закате, в музыке, в истоме и неге.
Грач стоит, поражённый, он всё еще слышит в ушах дивную музыку. Ему чудится, что сейчас, в этот миг ушло от него навсегда что-то старое, а сам он вступил в жизнь новую и до той поры неизведанную.