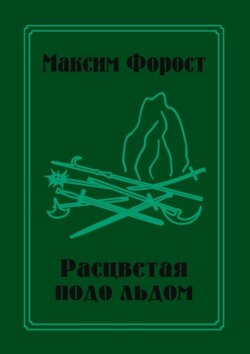Читать книгу Расцветая подо льдом - Максим Форост, Максим Анатольевич Форост - Страница 5
Часть первая
Огнич
Глава III
ОглавлениеВ тот день Грач попросту сбежал из Залесья. Три дня и три ночи он носа не высовывал с хутора и в одиночестве с остервенением крутил гончарный круг. Горшки получались уродливые, кривобокие, он с досадой кидался ими в стену или же мял их кулаками, разбрызгивая грязь по мастерской. На третьи сутки Грачу стало тошно. Он поплёлся к сваленной в углу утвари, ожидавшей починки, поворошил её ногой. Худые котелки громыхнули.
«Бедные, – пожалел он, – такие же дырявые, как и я», – на сердце было тоскливо, захотелось бежать из дома, где не с кем поговорить, кроме как с лошадью.
Третьего дня его не ужаснули ни кровь на палаше – для коневода кровь это заурядная часть жизни, ни труп на слободской площади, ни Златовидова ухмылка. Но потрясло, что никто, совсем никто не шарахнулся прочь, не отшатнулся. Пускай человеческая кровь для коневода не отличается от крови животного, пускай выжеребка, заклание, свежевание – привычное дело, но Грач копался в себе и понимал, что смерть и расправа не тронули даже его. Что требовать с других?
В детстве он наслушался рассказов бойцов, что вернулись из-за Степи с далёкой Рати. Совсем седые в свои двадцать пять лет, ратники, затуманив мозги вином, развязывали языки. Рассказы их стоили ему бессонных ночей с вытаращенными от ужаса глазами. Вот, не от того ли взбесились шесть лет назад Грач, Златовид и другие?
Грач опрокинул верстак, пнул гончарный круг. Сердце сладко заныло. Сердце рвалось прочь из дома, к свободе. Тянуло к Залесью, к третьему от лесной околицы дому, к Руне.
«Да как же я с пустыми руками пойду? Цветов – и тех нет. А в садах уже цветут яблони. Да, яблони, – Грач, кажется, придумал. – В лесу есть одна дикая яблоня».
Грач засобирался. К той яблоне придётся сделать крюк, а потому лучше оседлать Сиверко. Жеребчик застоялся, ему надо размяться.
В лесу бежала неплохая тропка. На ней Грач разогнался, сшиб рукой листву, бросил её коню под ноги, в хрустящий снег. Спешился у самой яблони, срезал три цветущие ветки. Гуляя, повёл Сиверко за собой, позволяя тому покусывать на деревьях зелёные листья.
Среди деревьев мелькнул шалаш. Послышалось собачье, как показалось Грачу, ворчание. Он свистнул, подзывая собаку, и тут же увидал человека, стрелка, который с трудом сдерживал за ошейник здоровенного кобеля бурой масти. Стрелок был в дорожной одежде, держал за спиной лук со стрелами, на рукаве у него была всё та же нашивка со стрелами.
– Чернявый! Куда ветки тащишь? – стрелок еле усмирял рвущегося пса.
– Это не ветки, а цветы. Тебе-то какое дело?
– Ты это… леший, что ли?
– А ты? Кого в лесу ждёшь? – Грач перенял стрелковскую манеру допрашивать.
– А вот пса выгуливаю… – стрелок потянул оскаленного кобеля за ошейник.
Одного взгляда на пса, на жёсткую шерсть на его морде, на торчащие уши, на жёлтые, близко посаженные глаза хватило бы, чтобы понять – не пёс это, а волк.
– Почему окрас бурый? Серый же должен быть…
Стрелок пожал плечами. А волк зарычал, обнажая клыки, и взъерошил шерсть на загривке. Сиверко шарахнулся в сторону, Грач еле удержал его, а конь упёрся копытами в землю и захрапел. Грач слегка подтолкнул его в холку, пошли отсюда, нечего тут стоять.
«Ну, и пусть себе выгуливает, – приговаривал Грач. – Мы – коневоды. Мы волков в жизни не разводили!»
Он зашагал по лесу, который знал вдоль и поперёк, шагал напрямик к Залесью, щурился на солнце. Вдыхал обеими ноздрями яблоневый цвет. Еще светлее стало на душе, когда он увидал Руну – издали такую маленькую, будто игрушечную, рядом с деревьями её сада. Он помахал рукой. Она заметила, подбежала к калитке, открыла.
– Руна! Привет, я так рад тебя видеть!
– Привет! – глаза её так и засияли на солнышке. – Ой, как давно тебя не было, я соскучилась.
– В самом деле? Ох, даже приятно стало! Это вот тебе за такие слова, – он протянул цветы.
– Спасибо, – играя в изящество, взяла Руна. – Я весьма люблю яблоню, – засмеялась.
– А мне в такой солнечный денёк захотелось увидеть тебя, чтобы день стал удачным, – ручьём полились слова. – Ты всегда мне приносишь удачу, я давно заметил. От тебя, наверное, исходит волшебное сияние. Вот я и прихожу вдохнуть его и поделиться тем, что есть у меня.
– То-то я смотрю, – Руна засмеялась, – Сиверко тоже за счастьем пришёл?
– Куда же без него? – Грач погладил ему гриву.
Польщенный вниманием Сиверко цапнул с дерева усыпанную цветами веточку вишни.
– Не смей, – испугался Грач. Сиверко воровато покосил глазом, а Руна прыснула со смеху. Тогда жеребчик потянул губы к её цветам.
– А-ах! Пошел прочь, нахал! – Руна стала отмахиваться.
– Не обижай Сиверко! – Грач шутливо возмутился. – Он поцеловаться с тобой хотел.
– Пускай с моей Мальвой целуется! Хорошая же кобылка, трёхлеточка.
– Ну, Мальва это само собой разумеется!
– Ах, какой ужас! И ты такой же?
– Я? Не, я хороший.
Разговор вылился в брызги веселья и ничего не значащих слов. Было радостно смотреть на Руну, на улыбку чуть полных губ, на дрожащую от смеха каштановую прядку. В Руне было что-то от ребёнка и от взрослой девушки. Этот пушок на щеке, эти залитые смехом и солнцем глаза, они закружили Грачу голову: – «Наклониться бы и поцеловать её», – подумал он, но не решился.
– Можешь не верить, – голос Руны подрагивал от смеха, – но у моей вишни только нижние веточки замёрзли, а наверху в цветках уже ягодки – вот такие, с семечко.
– Неужели? – Грач улыбался. – А землянику под снегом не искала?
– Знаешь, не догадалась, – подхватила Руна. – Вот пойду в лес, возьму варежки и поищу.
– Угостишь потом? – Грач подобрал горсть снега, слепил снежок и запустил в дверь дома.
«Тумб!» – глухо стукнуло.
– Кто там? – донёсся голос Власты.
– О, кажется, твою матушку разбудил, – наозорничав, оглянулся Грач.
– Да она не спит.
Власта, кутаясь в шаль, вышла из дома и подошла.
– А, здравствуй, это Цветослав, оказывается! О чём смеетесь?
– Землянику под снегом ищем, – вежливо пошутил Грач.
– А что, поспела уже?
Власту никогда нельзя смешить в начале разговора. Бывает, что шутки не доходят. Теряются. Сперва её надо подготовить, мол, сейчас будет смешно.
– Да нет же, тётя Власта. Мы только на словах. Холодно в снегу рыться.
– Что за лето? – пожаловалась Власта. – Вверху жара, внизу стужа. Выйти бы всем да сгрести его куда-нибудь хотя бы с выгонов?
– Он за ночь вырастает, – остановила Руна. – Табунщики говорят: там, где кони разгребут днём, там ночью он снова ложится. Как роса – вместо неё появляется.
– Ну, не знаю, – нахмурилась Власта. – Может, хоть теперь порядок наведут.
– Да кто! – Руна фыркнула. – Златик, что ли, наведёт? Такое порой сморозишь!… – она отвернулась.
Власта взглянула на Грача за поддержкой. Не вмешиваясь, он пожал плечами: это у них продолжение начатого без него спора.
– Что? Вам Златовид нравится? – спросил Грач, и какой-то холодный червячок заворошился в сердце.
– Ну, – Власта явно осторожничала, – Злат необычный. Он умеет располагать к себе. Нам таких не хватает. А что ты удивляешься? – она пошла в наступление: – Теперь все за него! Захочешь хорошо жить, придётся дружить с ним, и здороваться, и поддерживать знакомство.
Руна опять фыркнула.
– Да, да, да! – обернулась к ней Власта и погрозила пальцем.
Грач встревожено обернулся к Руне:
– И где сегодня этот ваш знакомый?
– В Приречье, – сообщила Власта. – Он смотрит, как живут люди и как налажено хозяйство.
– Скорые суды? – вылетело у Грача.
Руна тут же отошла в сторону. Власта неуютно замялась, а Грач только бессильно проводил Руну взглядом.
– Меня там не было, – напомнила Власта. – И к слову сказать, этот Изяс был знатный подлец. Ты сам его не любил.
– Причем тут это! – перебил Грач.
– Ведь это он предложил объявить тебя изгоем за то, что ты украл его жеребца.
Вот этого говорить не стоило. Грач облился холодным потом и молча выслушал. До сих пор для Власты и Руны он не был изгоем, а был другом. Это негласное правило их общения.
– Мам, ты совсем уже! – Руна охнула, ушла в дом и хлопнула дверью.
– Вот, ты посмотри на неё, – подосадовала Власта. – Второй день так со мной! А потом будет ластиться и лизаться: «Мамочка, ты меня любишь?»
Грач немедленно из упрямства встал на сторону Руны. Чем бы ему подколоть Власту?
– Кобылку у Изяса себе подобрали?
– Нет, – глядя в глаза, ответила Власта так, что Грачу стало стыдно. – Нет. Соседи решили оставить свою долю его семье. И я с ними.
«И тут как все, – подумал Грач.
– Бабка-то у него вправду была берегиня, – вырвалось у Власты.
Грач резко дёрнул за повод Сиверко. Вскочил в седло, бросил сверху, не глядя:
– Если кто забыл, то моя мать – лесная вила.
– Ой, конечно же вила! – опомнилась Власта. – Цветик, да ты что? Твоя мама мне дороже всех, Цветик! – окликнула она его, отъезжающего.
Тот полуоглянулся, махнул рукой, ладно, мол, остыну, прощу, и пустил Сиверко вскачь вокруг леса, к Приречью.
Глотая досаду и непонятную обиду, он миновал Велесов луг с перелесками и въехал в Приречье. Ржание коней и брань Златовида он услышал прежде, чем расступилась акация, высаженные вдоль края посада.
– Живей, семя кикиморы! – Златовид злился. – Раздели их, чтобы я посмотрел. Маститых ко мне, остальных – прочь. Чалых, соловых, пегих – этих прочь!
Открылся длинный конюшенный двор. Лошади носились туда и сюда, общинные конюхи били о землю кнутами, а стрелки ловили коней под уздцы. Возбуждение коней передалось Сиверко, и Грач резко натянул повод, осаживая его.
– Мироша! – скрывая ярость, позвал Злат ледяным голосом.
– Я, Златушка, – сутулясь, подбежал старый конюх.
Как коневод, Грач видел, что у половины двух- и трёхлеток были пороки неверного бега – «бочение», «шатание», «неправый шаг». Всё это легко устранимо у молодняка, но для этих коней пагубно, если выездку не начать этим летом. Иначе товарными скакунами трёхлеткам не стать.
– А скажи-ка мне, Мироша, почему у тебя ценная масть вперемешку с неценной содержится? Может, это не конюшня, а вольный табун в степи или тырло полевое?
– Златовидушка, – мялся старый Мироша, – у нас не по окрасам стояли, а по родословным, по поколениям…
Златовид злорадствовал. Он сам словил под уздцы буланую кобылку. Та затрепыхалась, забила оземь ногами, но Злат смирил её, притянув к земле голову. Он ловко управился с лошадью, а золотые его волосы развились на ветру. Даже высекая искры от ярости, он успевал красоваться. Злат был в кафтане, в верховых сапогах с маленькими шпорами.
А дорогую перевязь с тем самым палашом держал, скучая и стоя в стороне, Верига.
– А какой же родословной эта трёхлеточка, Мироша? – Златовид издевался.
– Я же говорил вам, Златовид Кучкович, – посмурел Мироша. – У нас, как положено, вёлся учёт, и всё писали в книгу. Да был пожар, и всё погорело.
Конюх Мироша в былые годы лупил пацана Златика почём зря, чтобы жеребят не распугивал. А то их, издёрганных, кобыла к вымени не подпускала. Теперь, вот, поди же, сам перед ним и оправдывается.
– Это что? Я у тебя спрашиваю, – Златовид, не брезгуя, раздвинул пальцами кобыльи губы. Он крепко держал лошадь за нижнюю челюсть. Кобылка, приоткрыв рот, выпростала язык поверх удил, точно хотела вытолкнуть их изо рта.
– Молодая же, – растерялся конюх, – глупая.
Глупая, но за эти глупости – спрос с конюхов. Удила и всё оголовье мешались трёхлетке, а значит она до сих пор к ним не приучена.
– Кто тут молодняк обтягивает? – дознавался Злат. – Покажи мне того гада, кто её оповаживал. Или что – он близко не подходил?
Злат бросил буланую, та замотала головой, ускакала к своим. Злат высочил на середину двора, коням под копыта и удержал яркую рыжегнедую с чёрной гривой кобылу. Та заиграла, но Злат остудил, огладил её, недобро щурясь. Потом стеганул кнутом по задним ногам. Кобылка заржала и взвилась свечой.
– На ноги у неё смотри! – закричал Злат. Испуганная кобылка, широко ставя задние ноги, унеслась в дальний конец двора и смешалась с немаститыми пегими и чалыми. – Это боевая лошадь? Это скаковая? Она в бою со скока собьётся, у неё задние ноги бегут шире родной задницы!
– Ну, Златовидушка Кучкович, миленький! – уговаривал Мироша. – Некому молодью заниматься. Говорю же, беда за бедой! Пожар в посаде, малый приплод, купцы из Калинова Моста так и не пожаловали, не дождались…
Мироша загибал пальцы, а Златовид выбросил кнут и перчатки коням под ноги да отошёл прочь со двора к Вериге и Скурату.
Грач издали присматривался: Злат был подавлен, плоскогорские кони нужны ему до удавки. Скурат и Верига в полголоса переговаривались, Верига, кажется, злорадствовал. Злат, должно быть, поклялся про себя припомнить ему это.
– Уберите коней. С глаз долой, – бросил Злат за спину. Конюхи не сразу, но управились, свели лошадей со двора, развели по стойлам, заперли.
Грач присвистнул, привлекая внимание. Злат мрачно посмотрел, потом приветливо кивнул – сейчас подойду, мол. Подходил он нарочно медленно, изображая усталость. Верига со Златовым палашом разглядывал Грача.
– Здорово.
– Хозяйство налаживаешь?
– Плюнул бы на всё, Цвет. Запустили табуны, запаскудили…. Сам-то куда пропал?
– На хуторе был.
– Возьмёшься за жеребят? – Златовид взглянул исподлобья. – Приплод этого года – отъёмыши, неуки. Нам вот такие кони нужны, – Злат с завистью кивнул на Сиверко. – А станут конюхи коситься – наплюй. Это же я тебя приглашаю.
– Подумаю, – снова, как тогда, сказал Грач.
– Ты уже о многом думаешь! – припомнил Злат. – Думай быстрей. А то…
Сзади подошёл Скурат, подвёл статную, благородно-серую кобылу с лёгкой волной рыжеватого волоса:
– Гляди, Златовид!
Злат присвистнул от удовольствия. Нахмурился, ожидая подвоха, стал всматриваться, ища малейший изъян. Не нашел. Даже заволновался.
– Окрас-то, окрас-то какой редкий. Грач, это розовым зовут или изабелловым?
– Розовым, – протянул Грач. Масть и вправду редкая.
– Верига, снаряди её быстро! – приказал Злат, волнуясь и не сводя глаз с розовой кобылицы.
Верига отложил палаш и оседлал лошадь. Злат, не касаясь стремян, взмыл в седло, лошадь задрала голову, но не стронулась с места. Легонько он ткнул её бока репейками шпор. Кобыла заржала и что есть силы лягнула воздух, рванув всем мощным крупом. Злат едва не вылетел из седла. Ругаясь, он еле смирил лошадь, соскочил на землю.
– Отбойная! – кричал он. – Отбойная кобыла-то, шпор не знает! Купцов ждёте? А всё! Из Калинова Моста больше купцы не придут, не ждите. Из Карачара по осени будут, да! Но ваших не возьмут. Вам же не купец нужен! Вам нужен такой, кто в этом году любую у вас возьмёт – и пегую, и кривоногую, лишь бы была обучена.
Грач краем глаза замечал лысоватого человечка, что прятался за углом конюшни. Он узнал его. За стрелками подсматривал посадский конюший Гоес. Златовид ухмыльнулся и сказал своим:
– Вот и всё, парни. Мы можем идти.
Верига протянул ему перевязь с палашом. Златовид препоясался, приятельски кивнул Грачу:
– Пройдемся? – пригласил на разговор.
Они пошли вдоль посада к просеке. Грач косо поглядывал на Злата, покачивающего рукоять палаша.
– Подумай, Цвет, посоображай. Конюх ты ладный, – начал Злат. – Через годик, через другой надо нам вырастить из молодняка скакунов. Знатных, боевых, таких, чтобы под седоком – в огонь и в воду! Займись же этим. Тебе никто и слова поперёк не скажет.
Злат советовал верное. Согласись теперь Грач, глядишь, всё и пошло бы в его жизни иначе. Но Грач помалкивал. Он разглядывал рукоять того самого палаша – посеребренную, почерневшую от пота. Её точно обвивала змея с раздвоенным жалом, а долгий и узкий клинок скрывался в ножнах из плотной кожи. Узнать бы, кровь с клинка вытирают или её впитывают ножны?…
Злат не дал ему додумать:
– Здесь мало таких как ты. Посмотри, вот был Изяс – великий коневод, у него и впрямь были дивные табуны. А больше никого. Есть Бравлин – отличный кузнец, да мелковато дело поставлено. Взял бы учеников, расширил бы кузницу… Соображаешь, к чему говорю?
Злат хотел как прежде ударить Грача по плечу, но тот шагнул в сторону. Злат промахнулся и, пряча досаду, размял в воздухе руки.
– Послушай, – Грач тяжело выдохнул. – Ты же ведь вор, Златик? Правда?
– Я? Нет, – Злат легко рассмеялся. – Хотя в определённом смысле… Ну, что по-твоему воры – конокрады и взломщики? – он ухмыльнулся.
– А ты удалец с большой дороги? – вырвалось у Грача. – Берёшь у богатых и раздаёшь бедным?
Златовид дёрнул головой.
– Дело не в этом. Есть люди – много людей! – кто борется за честь быть рядом – всего лишь рядом! – с теми, кто не щадит своей жизни, кто верен своим, верен делу. И верен оружию.
Они шли вдоль леса. Сиверко мешкал и задерживал их, срывая с ветвей листья. Златовы сапоги со шпорами не спеша давили снег, ставя чёткие, как отлитые из свинца, отпечатки.
– Я знался с ворами, Цветослав. Не всякий вор – преступник. Если кто-то крадёт, чтобы зарыть похищенное в землю, то такой и изменит, и предаст. А посмотри на меня. Разве я что-то оставил себе? Я всё роздал: и меха, и шелка, и даже коней Изяса. Ты видел, как их хватали, Цветик? Ты видел людей? Что им донос, что им смерть – не остановить! Так кто после этого вор, Цветик? Я – воин, я – аскет, мне много не надо. Эх, Цветик! – он всё же хлопнул его по плечу. – Ты ещё смеешь держать меня за злодея? – он засмеялся.
Ему было легко, весело. Гуляя, Златовид молодецки играл плечами и встряхивал золотистыми волосами, ветер шевелил ему волосы.
Ветер шевелил ему желтоватые волосы, а он подумал: «Легкокрылые кони – это надо же сказать такую глупость!»
– Вообще-то, – сказал Зверёныш шёпотом, чтобы звук не разбегался по реке, – крылатый конь – это редкая масть. Благородная. Крылатый это когда у каурого или саврасого чёрные «крылья» – оплечья по шерсти.
– Как у того? – спросил Язычник, показывая вдаль.
Смородина в нижнем своём течении тиха и нетороплива. Казалось, воды её – туги и упруги. Осенний холод бежал по воде и ветром шелестел по камышам в прибрежной заводи. В камышах, как охотники, в лёгких лодочках таились молодцы Язычника – по четверо-пятеро в каждой из дюжины лодок. Вверх по реке медленно плыли от Калинова Моста три струга под свёрнутыми расписными парусами.
– Как тот? – повторил Язычник. – Тот крайний – это крылатый?
Зверёныш вытянул шею, вгляделся предельно острым своим зрением и мотнул головой:
– Не-е. Но тоже ценится, барышники таких любят. Это – саврасый в масле.
Язычник повернулся, качнув лодку, и недовольно зыркнул.
– Ну, в масле – это так говорится, – протянул Зверёныш. – Грива и хвост у него черны как уголь, а сам аж лоснится… как мокрый песок.
Струги шли без ветрил – ветер для парусов слабый. На рядах скамей сгибались и разгибались гребцы с длинными, скрипучими в уключинах, вёслами. Уже послышался плеск вёсел о воду, заунывные припевки гребцов, фырканье коней в стойлах. Купцы-лошадники возвращались из Калинова Моста на Буян-остров. Зверёныш различал лица приказных, торчавших на кичках – площадках на корабельных носах, сразу за резной длинношеей лебедью.
– Прилично купцы затоварились, а, Зверёныш? – оценил Язычник. – Как тебе бурые?
– Это – караковые. Бурые – это карие в краснину, а караковые – в черноту. К тому ж с подпалинами, ну, с прожелтью на мордах. Почти что мухортые. Масть – так себе, но стати – правильные, ценные.
– Вот так – да? – не ожидал Язычник и опять сверху до низу оглядел Зверёныша. – А тех на втором струге как назовёшь? Светлых, белёсых до желтизны.
– С бледной серотой и темной гривой – половосерые, – прищурился Зверёныш. – А белёсогривые, желтоватые – то соловые. А вон та – изабелловая, – он оживился, – буланая в краснину. Она как соловая, только гуще, и грива чёрная. Такие богачам нравятся, они их дочкам своим берут!
– Откуда ты взялся, Зверёныш? – Язычник усмехнулся. – Ты из Степи? Лицом, вроде, не похож. Откуда родом?
Зверёныш отвернулся. Отвечать не хотел.
– Где я рос, кобылье молоко с материнским мешают. А лошадей крепче людей берегут. Коневод я.
– Конево-од, – протянул Язычник и языком прищёлкнул.
Струги с лошадьми подошли близко. Как раз – на челнах им путь пересечь. Язычниковы молодцы завозились. Тихо, стараясь не плеснуть, приготовили вёсла. Извлекли мечи, подняли луки.
– Ладненько, – оценил кто-то из старых Язычниковых работничков. – Бойцов у них мало, из людей так себе – сарынь одна.
– Сарынь? – бросил Зверёныш, глядя только вперёд, на корабли.
– Голытьба, сволочь разная, – одними губами пояснил Язычник. – Сарынь – по-здешнему.
Гребцы на кораблях тужились, гребли с оттягом, не торопясь. Язычниковы молодцы изготовились, напряжение возросло.
– Пора!
Кто-то засвистел лихо и по-разбойничьи. Лодки вырвались из камышей, заскользили ровненько наперерез стругам. Вода заплескалась. «Раз-раз!» – заработали вёслами дружиннички. Зверёныш зачарованно не сводил глаз с пёстрого свёртка паруса на мачте и тискал потную рукоять сабли.
– Вёслы! Вёслы суши! – горлышком сложив ладони, прокричал Язычник.
Приказный на первой кичке забегал, размахивая руками, что-то закричал. На кораблях переполошились. Расстояние таяло. Взмахи гребцов спутались, ритм потерялся. На первом струге подняли вёсла, но вода несла струг вперёд, к разбойничьим лодкам. На втором сильнее загребли по левому борту, норовя уйти вверх по реке, но не развернулись, одумались, взялись грести скорее, да время уже пропало. Лодки Язычника их окружили.
– Ушкуйники! Ушкуйники! – бестолково кричали на стругах. Над бортами мелькали лица, нёсся храп испуганных коней.
– Вёсла прочь, вёсла! – ругались налётчики. Торчащие вёсла мешали лодкам пристроиться к борту.
– Прочь от вёсел, сарынь! – закричал тот старый работничек. – С дороги, все на кичку! – рукой он даже показывал голытьбе, куда им убираться. – На кичку, сарынь! Сарынь, на кичку!
Гребцы, кто ещё сидел, повскакали с лавок. Весла либо попадали в воду, либо прижались к борту. На втором струге замешкались. Кто-то в доспехах побогаче грозил Язычнику саблей.
– Давай, – приказал Язычник. Лучники с лодок выстрелили раз и другой. На корабле закричали. Два тела, кувыркаясь, упали в воду. Зверёныш оскалился, видя торчащие из спин древки.
Сарынь загомонила, кинулась гурьбой на кичку. Лодки пристали, воины заскакивали снизу на борт, бранясь, рубили тех, кто замешкался. Зверёныш соскочил с борта на лавку, любопытства ради ткнул саблей скорчившегося под лавкой гребца. Тот жалобно закричал, задёргался. Стало противно. С борта спрыгнул Путьша и добил его, дурно хохотнув. Переглянулся со Зверёнышем, и тот оскалился – в бою надо быть злее, чтобы тебя за вожака считали.
Налётчики дрались на корме у конских стойл. Купцы и приказные в кафтанах да с лёгкими сабельками пытались сопротивляться. Вольга-лучник тяжеленным мечом сам срубил двоим головы. Куда лёгким саблям до меча! Зверёныш и не заметил, как бой окончился, купцы сдались. Вокруг кричали, гремело железо, выли раненые. Победители волокли купцов по полу, мешали живых с мёртвыми.
Кто-то завопил: «Не губи!», кого-то с бранью потащили из трюма. Защищая, верный холоп кинулся на Ярца. Тот оторопел, заслонился, а после выставил меч и ткнул неуёмного холопа в живот. Тот повалился на бок, и прятавшихся в трюме женщин вытащили. Купцову семью, что ли?
В стойлах на корме ржали и бились лошади.
Тяжёлым шагом Язычник пересёк палубу. Шлем с нащёчниками и наносьем прятал его лицо. Перед ним валялся скрученный руками за спину купецкий староста, его буянская тога перемазана чёрно-красным. Поморщившись, Язычник снял шлем.
– Узнал меня?
Староста поднял голову.
– Хе-е, – протянул, скривившись, и сплюнул кровью в сторону.
– А я-то как услышал, что Салтанка под осень купцов пошлёт лошадьми затовариваться… – Вольга-лучник не договорил, замолчал хмуро. – Расплатимся? Кто там у тебя, показывай.
В трюме пряталась девчонка лет двенадцати с золотыми серьгами и, видимо, её нянька, молодка с пухлой грудью. Молодка-то была из местных, говорила понятно, а девчонка что-то лопотала по-своему, наверное, по-буянски. Староста захрипел, кашлянул и вдруг выпалил:
– Пусти её! Вольга, слышишь? Это же дочка Салтанова. Я ей и за няньку, и за дядьку, я ей как родной.
Язычник мотнул чубом, потёр горло – бычью шею намяла горловина кольчуги:
– А давешним годом моих молодцов Салтанка отпустил ли? Выкуп за них принимал ли? Живы они иль померли на плахе-то! – Язычник, опираясь на меч, вогнал его в палубу. Аж доска треснула.
Девчонка что-то забормотала. Зверёныш вслушался, но ни слова не понял: кар-кар да гыр-гыр и всё. Кормилица только глаза переводила с неё на Язычника.
– Вольга, – пленный староста пытался привстать. – Знаешь, за что тебя «язычником» кличут? Чужой ты здесь. И языком чужой, и повадками чужой, и веришь во что честным людям не полагается…
– Врешь, сука, – Вольга был страшно спокоен. – Я тем, кто слово не держит, языки из пасти рву.
Пленный сглотнул и привстал-таки, распрямив спину. Лицом побелел – это Зверёныш заметил. Он, кажется, уже ко всему приготовился.
– Этих, – показал Язычник на девчонку с кормилицей, – за борт. В воду.
– Пусти-и!!! – взвился пленный, но ему заломили руки, опрокинули на доски. Девчонка закричала по-тарабарски. Воины схватили её и няньку, та закричала надсадным визгом:
– Не её! Меня, меня губите!
Обеих скрутили веревками, плюясь и бранясь на себя от досады, выкинули в воду. Река гулко плеснула, поглотила их. Только сарафан пузырём поднялся и тоже потонул.
– А ты, холоп, – Язычник нагнулся к старосте, – с сарынью на берег плыви и не смей потонуть. Салтанке всё, как было, расскажешь. Запомнил ли?
Сладка мест Язычника. Ох, и сладка! С чем бы её сравнить-то? Только сама обида, лелеемая в сердце, бывает столь сладкой. Нет, не легкокрылый полёт на конях, не сны и мечты юности – только обида и месть так сладки.
Грач целыми днями сидел и вырезал Руне подарок. Звенья браслетки выходили одно к одному – ровными, гладкими. А на душе точно кошки скребли. От последнего разговора со Златом осталось чувство – вроде мутного осадка в бутыли с прогорклым маслом. Злат не просил, нет – Злат велел ему заняться молодняком.
Грач принялся просто так, играя, резать ножом кусок липы. Получалась игрушка – всадник, укрощающий вздыбившуюся лошадь. Не сразу понял Грач, что всадник похож на Златовида верхом на отбойной розовой кобылице. А когда понял, то резанул ножом по лицу всадника, изуродовал его и бросил в печь.
Он взялся разгребать на дворе снег, но только испортил, погнул о мёрзлый сугроб лопату. Бросил работу, стал слоняться по хутору. «Ведь Изяса, – думалось ему, – дозволили растерзать за одну лишь бабку-берегиню». Чего ждать ему, вилину сыну? Вечером в дверь постучали.
Кто-то прошёл, перелез через закрученную на ночь калитку. Грач отворил дверь. В дом, неловко оглядываясь и зачем-то поправляя руками шапку, протопал посадский конюший Гоеслав.
– А пустишь ли гостя, хозяин? – Гоеслав пытался изобразить улыбку, но не столько поджатыми губами, сколько дряблыми, повисшими щеками. За шесть лет Гоес и близко не подходил к изгойскому хутору.
– А здрасьте, – пробормотал Грач.
– Ладный ты дом выстроил, – пытался вести разговор Гоес. – Э-э… Сам всё справил?
«Община помогала!» – хотел огрызнуться Грач, но сдержался. Гоеслав и так это понял по его виду.
– Ты это… – конюший понимал, что сказал глупость, но не знал, как исправить дело. – Сесть можно?
– Садитесь, – Грач обронил равнодушно. А Гоеслав остался стоять.
– Ты это, Цветослав! – начал, наконец, Гоес. – Уполномочен тебе сказать, что истекшие шесть лет ты вёл себя примерно, не вызывая нареканий, – Гоеслав замолчал, припоминая приличествующие случаю выражения. – Не взирая на тяжкие условия, ты показал себя старательным кустарём… – он умолк, подбирая слова.
«Прощают, – Грач заложил руки за спину. – Златовид был прав».
– Хоть я тебя тогда… Ты это… А Златовид, гм, Кучкович с тобою дружен! Он говорил, что помочь, мол, обещал бы… Ты передай. Согласны мы. Обсудить и… всесторонне взвесив, принять общим решением.
Конюший вытер пот с лица и засобирался. Он всё сказал. Оставаться здесь больше не зачем.
– Так ты давай… Работай, трудись, – добавил, стоя уже на пороге.
«Вот прямо сейчас, на ночь глядя, и побегу к Златовиду», – подумал Грач вслед Гоеславу. Но все те слова, такие вымученные и выдавленные через силу, были столь нелепы и нехарактерны для конюшего, что Грачу томительно оказалось ждать до рассвета.
Он не выдержал. Запер Сиверко и просекой побежал в Залесье к бывшему дому Изяса.