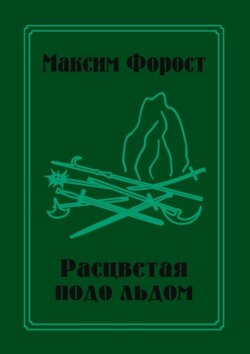Читать книгу Расцветая подо льдом - Максим Форост, Максим Анатольевич Форост - Страница 8
Часть первая
Огнич
Глава VI
ОглавлениеМожет, и стоял когда-то Щерёмихин сбитень рядом с дурманом, но стоял недолго. Ни горячечного тумана в голове, ни жара в груди не было и в помине. Грач подосадовал: и тут его обманули. Только горечь во рту! Да на беду не остыло желание сцепиться с первым же встречным.
Вот, замаячило через две улицы прежнее Изясово подворье – теперешняя Златовидова ставка, и как на грех вспомнились Руночкины слова: «Ах, у нас с ним всё так серьёзно…» Грач с досады подстегнул Сиверко: «Вот и спросим сейчас у него, как серьёзно!»
Грач у дощатых ворот спешился, хотел заколотить в створку кулаками, да помедлил. А как замешкался, то вот и заметил, что через улицу глядит на него, на изгоя Грача, тройка парней – уличных балбесов. Запал сам собою прошёл.
– Тебе бы лучше уйти… – долетели чьи-то слова.
Оказалось, что у ворот приоткрыта калитка, а из-за неё доносится голос Асеня. Асень не пел. Асень тихо говорил, а голос у него был сухим и усталым:
– Тебе лучше просто уйти с Плоскогорья, – он повторил. – Старый Нил просит тебя о том, умоляет. Ну, не нужен ты здесь! Людей пожалей…
– Люде-ей! – тянул в ответ Златовидов голос, властный и самоуверенный. – Знаешь, а ведь я ждал, что от Нила кто-нибудь придёт, – Златовид нехорошо засмеялся, – хотя бы для переговоров.
– Ты с мечом, а я с гуслями – разве это переговоры? – Асень тяжело вздохнул и заговорил тихо-тихо, так что слышались только обрывки слов, и вдруг донеслось отчётливо: – Признайся, Зверёныш, это ты рассказал Вольху про Царь-Камень!
– Грозишь? – взвился Златовид. – Грози-грози! А я здесь – власть. Что захочу, то с тобой и сделаю! – за стеной прошуршали ножны, звякнула сталь. – Я – Златовид Плоскогорский. Ты не забыл?
– Ты сам себя поставил, и здесь не наместничество твоего Вольха.
– Вольх меня простит!
– Так ли? Вы с ним прощать не умеете…
– Убирайся пока жив, гусляришко! – визгливый крик Златовида пронёсся по улице. Калитка перед лицом Грача распахнулась, ударилась о забор и отскочила назад.
Теснимый Златовидом певец порывисто вышел. На ходу он глянул в глаза оказавшемуся на пути Грачу. Грач так и отскочил на пару шагов, точно обжёгся. Глядел певец так, будто пронзал и прочитывал душу насквозь, до самой глубины, как одному ему ведомую книгу. Этот-то пронизывающий взгляд и обжигал, ощущался всей кожей, всеми проступившими вдруг мурашками. Высмотрев до донышка, Асень отвернулся, точно отыскал что-то презренное, и, брезгуя, прошёл мимо Грача.
Верига в этот самый миг выскочил и ткнул Асеня кулаком в спину – под котомку с рожком и гуслями. Певец не покачнулся и не оглянулся. Так не оглядываются на дерево, роняющее на спину сухой лист.
Вышел и Златовид. Грач прежде его таким не видел: Злат дрожал мелкой дрожью, а белые пятна оспинами покрывали ему щёки. Никого не узнавая, он глянул по сторонам и, словно чуя опасность, потянул из ножен палаш. Потом моргнул, приходя в себя, и наконец-то признал Грача.
– Ну-ка… зайди, ты мне нужен… – пригласил он. Злат глядел на Грача, перескакивая со зрачка на зрачок.
Только закрывшись от людей дверями и забором, Злат успокоился. Рукою махнул, гоня прочь Веригу и Добеслава.
– Послушай-ка, Цвет… – Злат вдруг поперхнулся и очень долго кашлял, сгибаясь и сплёвывая. Грач ждал и смотрел на него. Волосы на голове Злата уже не были золотыми, а как в первый день соловыми – желтоватыми с белёсыми прядями. – Пора нам поговорить откровенно, – прокашлялся Злат и непроизвольно дёрнул плечами.
Грач оскалился:
– Какое совпадение. Сегодня я уже откровенничал. Это плохо кончилось. Не посочувствуешь?
Злат, не находя себе места, спиной привалился к забору. Бившая его дрожь унялась. Он прикрыл глаза:
– Помнишь, Цветик, как я уезжал отсюда? Юнцом совсем… Лет семнадцать… Да? – Злат говорил медленно, с перерывами. – Приехал я к старику Нилу… Спросил: где счастье, что оно такое? А он долго что-то говорил, я не запомнил… Чудной старик. Может, и не сумасшедший, может, только притворяется. Сказал, дескать, что счастье – это то, что на исходе жизни подаст душе мир, покой и наслаждение…
Злат открыл глаза и провёл повлажневшей от пота ладонью по волосам. Соловые волосы блеснули колким золотом.
– Ездил я после по свету и искал, в чём оно – наслаждение, в чём мир и покой? Ты, вот, даже не знаешь, – выдохнул Златовид. – А я понял! Это власть, слава и женщины. И помочись в глаза тому, кто назовёт что-то другое! Деньги, сила, победа? Так не цель это, а средства. Цель же всюду одна – слава и власть. Женщины, говоря по правде, лишь приложение к ним.
Злат перестал дрожать, белые пятна с его лица исчезли. Грач наоборот стал хмуриться и сжимать губы.
– Цветушка, ты видел Асеня? Несчастный он человек, мне жаль его. Велик, почитаем, любим и славен – но начисто лишён власти. А видывал я и «серых королей», советников при властителях. Богатство и власть при них, чужие судьбы вершат, а весь почёт и вся слава – другому. Отсюда все беды для здоровья! Только ущербный довольствуется чем-то одним – властью или славой… Цветик! Мы всё ещё говорим откровенно?
– Тебе виднее, – буркнул Грач.
– Ты не морщись мне тут, мол, якобы обижен на меня! Друг ты мне какой-никакой. Все тебя за моего ближнего держат, а ты живёшь леший знает где, на выселках, в лесу на перекрёстке, как яга старая. Некрасиво это. Опять же, сельчане тебя за изгоя держат. Не хорошо. Уезжал бы ты отсюда!
– Как? – не понял Грач. – В смысле – куда это я поеду?
– Да ты поднимись в дом! Дело у меня к тебе.
Злат поднялся на крыльцо. Грач помедлил, но пошёл следом. Подержался за резные балясины, но в самый Изясов дом не вошёл, остался на пороге. В приоткрытую дверь виднелись зеркала на стенах, стеклянная посуда на полках – остатки чужой отобранной жизни.
– Ты вор, Златка, – выдавил из себя Грач. – Убийца и душегуб, – он резко прочистил горло, – и дело иметь с твоей шайкой я не желаю.
Видеть, как менялось у Златовида лицо, Грач не мог: слова были сказаны в спину. Видел он только, как эта спина выпрямилась, а шея закаменела.
– Как ты сказал? – он процедил, поворачиваясь. – Я – душегуб? – Лицо у него почернело. – А вот – да, я – вор, я – злодей. А кто ты такой, чтоб совестить меня? – Златовид рубанул рукой воздух. – Я как убивал, так и буду убивать сволочь, что нечиста хоть самую малость. Потому что своими глазами я видел, как нечисть казнила пацанов. Наших пацанов, Цветушка! – Злат задохнулся, и Грачу подумалось, что он опять забьётся кашлем.
У Златика губы сузились в ниточки и побелели. А руки затряслись. Он пробовал сжать кулаки, а пальцы левой руки не подчинились и заплелись узлом.
– Златка, – позвал Грач. – Остынь, Златка, – попросил.
– Я их казнил и казнить буду, – пообещал Злат. Только лицо перекосилось – или это свет из окна так падал. – По сто за убитого. По полсотни за изувеченного. За наших, за Ярца, за Путьшу-Кривоноса. Путьшу-то помнишь, Цвет? Он первый тебя Грачом-то прозвал…
Грач, наверное, тоже потемнел лицом. Путьшу-Кривоноса он помнил. Злой был мальчик. Говорят, удивлялся, что это Ладис так быстро помер. Как же они его били? Сапогами в лицо или в живот шпорами?
Злат долго молчал. Ссутулился. Даже стал на голову ниже. Злат справился с собой. Тяжело вздохнул:
– Помоги мне, Цветушка, – Злат опустился на резной табурет. – Пожалуйста. Мне помощь нужна, – Злат замахал рукой, не дав Грачу перебить. – Дослушай меня, дослушай! Именно мне, мне помощь нужна. Не стрелкам, не нашей войне, а мне, Цветослав, как другу. Попросить больше некого! Слышь? Вольх убьёт меня. Убьёт, если хоть мысль допустит, что я дезертир. Знаешь такое ратное слово?
– Знаю, – буркнул Грач. – У самого отец ратник.
– На меня Верига волком глядит. А Скурат себе на уме. Да ещё Добеслав – малолеток. Положиться-то не на кого! Выручай, Цветик. Вот, донесут Вольху, что я скрылся от него, живу себе в глухомани, службу оставил – ведь так всё дело извратят, скажут: Вольхова вожака не сберег, Гвездояра в бою его кинул. А это не так, Цвет, не так! Продали нас. Да и Гвездояра уже к берёзам вязали, когда я уходил! А поди докажешь это у Вольха-то на дыбе? Отвези письмо, Цвет, скачи к Вольху, а то и неровён час – меня в покойники запишут.
– Где письмо-то? – Грач поднялся. – Давай! – оставаться в Изясовом доме ему неуютно, как при умершем. Начищенный пол, посуда, зеркала – всё блестело. Не по себе, уйти бы, уехать. – Скорее, только!
Злат зыркнул снизу вверх, вскочил, забегал, разыскивая чернила с бумагой.
– Обожди пока, обожди! Сейчас, я быстро. Управлюсь…
Грач стал смотреть, как, торопясь, пишет Златовид – с росчерками, разбрызгивая чернила, со скрипом пера по бумаге.
Вошёл, не стучась, Верига. Злат поднял голову. Губы сжал и молчал, пока дописывал. Дописал, спросил с мутными глазами – всё как недавно:
– Что тебе?
– Певец ушёл, – сообщил Верига. – Проводил его до леса, что над обрывом.
А Грач, увидав Веригу, только то и вспомнил, что Власта ему проговорилась: «К нашей Руночке сватался, Верига руки просил…»
– Далеко ехать-то? – Грач дёрнул головой. – Скорей бы.
– М-гм, – Злат кивнул, свернул письмо в трубку, накапал воском со свечки. Воск застыл, и он оттиснул в нём перстень. – Съедешь за Навьим лесом с Плоскогорья – по той же дороге, как в Карачар ехать. Доберёшься до Молочной реки, переправишься, а за Брынскими лесами держись Жаль-реки, всё вниз да вниз, не переходя её. Найдёшь сёла полевых вил – это где Жаль-река, не сливаясь, сближается с Пучаем. Становища Вольха где-то за ними – точнее не скажу. Будет лето, так он продвинется к Сорочинским предгорьям, а в эту пору, может, и чуть поближе стоит. Запомни: к алконостам не сворачивай, они чужие и встретят плохо…
Дальше Грач не слушал. Взял письмо, махнул рукой, ушёл со двора. Дверь закрылась, через неё послышалось:
– Как Вольхов бурый волк? Здоров ли?
– Что ему сделается, – бросил Верига. – Волку в лесу.
Грач мигом вскочил на Сиверко и погнал его.
Ой, лихо понеслись кони! Как вихрь, как ураган помчались, не разбирая дороги! Не беда, что нет у всадника стремян под ногами, что в гриву коню как в повод не вцепиться. Они невидимы – эти кони, влекут, куда сами изволят! Это – дикая свобода и необузданная воля.
Под натиском сотен рук не устояли и рухнули ворота. Окружающий каторгу частокол трещал и раскачивался. Камни и осколки руды стонали под ногами упиравшихся в землю каторжников. Зверёныш шумно дышал, кашлял и давился забытым «верхним», земным, воздухом. Жёлтые косматые волосы залепили ему лицо и шею. Он отплевывался, бранился, клялся отомстить врагам и ржавой киркой крошил в щепы косяк дубовых ворот. Тогда-то они и рухнули.
Вольга-Язычник, взмахивая перемазанной чужой кровью стальной бритвой, орал приказы, а мокрый клок волос на ветру хлопал его по уху. Пал вывороченный из земли частокол. Началась свалка, каторжники рвались на волю. Кого-то задавило, но каторжане лавой валили вперёд, а позади остались забитые кайлами и кирками охранники, часто в спешке не добитые, брошенные и в раже затоптанные.
Ежедневная утренняя дудка стала знаком к общему бунту. По её свистку из штолен, имеющих отлогий выход, повалили на землю каторжники – с обрывками цепей, с кусками руды, с кирками наперевес. Повального бунта рудников остров Буян до этого дня не ведал, забои и шахты между собой не соединялись. Но кем-то наученные забойщики тайно пробили штреки и переходы, и горняки из отвесных как колодцы шахт в условленный день прошли к отлогим штольням. Восстания охрана не ожидала, многие так и не поняли, что происходит.
Тревогу забили, когда ближняя стража была сметена. Кто-то заколотил в медное било, звон разлетелся над рудниками. Поднятая по тревоге дальняя охрана выбегала из казарм, да только и смогла, что построиться, прикрывшись щитами и выставив вперёд короткие мечи. Лава каторжников разметала их строй по двору. Кто-то защищался, прячась за щитом и отступая. Зверёныш углядел молодого буянца, злого и наглого как он сам, и, не раздумывая, ударил кайлом в его щит. Ржавое горняцкое кайло разом пробило щит и сокрушило кости. Мальчишка-стражник закричал и упал, Зверёныш насладился его страхом и с размаху опустил кайло на его голову. Драться Зверёныш не умел, но умел убивать. Так он заполучил первый в жизни буянский меч.
Когда пали ворота и частокол, раскрылась дорога, бегущая вьюном с гор, с рудников в город. С кайлом и мечом Зверёныш вырвался на волю. Река каторжан подхватила его и понесла к городу. Воздух заполнили хриплые вздохи, стон, сдавленная брань. Тысячи замотанных тряпьём и стёртых ног затопали вниз по камням. Сутулясь и озираясь, чтобы не споткнуться, Зверёныш углядел в потоке Ярца и Путьшу, а с ними прежнюю свою ватагу. Дорога бежала навстречу, торопилась вверх, в гору. Дорога сбивалась с ног, спотыкалась. За дорогой еле успевал, рос на глазах, близился город.
Кто-то захохотал. Наверное, опьянел от воли как от выкуренного мха. Город был открыт, наг и беззащитен. Лавина бунтарей – очумелых, голодных, истосковавшихся плотью – неслась на него, на бегу сбивая в кровь ноги. Сотни глаз, ртов и рук вожделели огня, пожара, забавы. Город лежал не шевелясь.
С горы виднелись как игрушки крышечки домов, улочки, площади. Горстка городской стражи разбежалась, блестя круглыми щитами, когда до оравы каторжников осталось полпоприща. Каторжник зол, он жизнью и судьбой обижен, тихий и безропотный на каторгу не попадает, а и попадёт, так проживёт недолго. Путь в город был свободен. Злорадствуя, бунтари прибавили шагу. Слева, ближе к морю, лежала гавань, где у причалов покачивались кораблики.
– В гавань! – приказал Вольга. Он поднял буянский меч, но в другой руке по-прежнему сжимал бритву. – Для мести и забавы время ещё настанет. Мы идём в гавань, где корабли! В море нас не сыскать. Не замедлим! В город идут войска.
Каторжники закусили губы, но с Язычником не спорили. Зверёныш видывал, как в забоях насаждался и рос страх перед скорым на расправу Вольгой. Ему подчинялись не прекословя.
Ниже по дороге, когда из гавани донёсся плеск волн и скрип канатов, Вольга опять остановил толпу и выкрикнул:
– Клянитесь не раздумывая! Подняв теперь руку и глядя в глаза мне, клянитесь! Что, если солжёте, то руку вам отсекут и голову!
Они поклялись ему. Поклялись не Судьбой-Долей – проклятая Судьба ненавидит их, а сладким духом свободы и мести поклялись служить ему до гроба.
– Клянусь отомстить, – чётко выговаривал Вольга-Язычник, – за животный мой страх и скотскую дрожь, за кровавый кал, сползшую струпьями кожу и выхарканные лёгкие. Отомщу всем сторожам, кандалам, судам, калёным щипцам и плахам. Не пощажу врага, где бы ни нашёл его. Сотню за убитого, полсотни за раненого!
– Сотню за убитого, полсотни за раненого! – кричали соратники.
Их крик услышали в гавани. Сверху было хорошо видно, как засуетилась внизу охрана, пытаясь равнять ряды. Купцы и моряки спешили отвести корабли в море. Они не успевали. Толпа каторжан с кирками и мечами уже катилась на них по горной дороге. Скоро у них будут корабли, а с ними воля и новая ушкуйная, разбойничья сила.
Корабль скор, неуловим, силён и лёгок, как конь. Люди на нём – всадники. По произволу летит разбойничий корабль, куда захочет. Впереди распахнулась свобода. А где-то на свете есть почёт, и слава, и власть. Зверёнышу было девятнадцать, скоро исполнится двадцать. Что, Зверёныш? Впереди открывается жизнь, и она снова тебе не нравится?
На хуторе Грач расседлал Сиверко – пусть пока остынет перед отъездом. Сбрую свалил прямо в углу да бросился в дом. Некогда ему! Грач торопился.
– Спровадили меня, да? – крикнул на весь дом. – А вот и ладно! Мне до вас дела нет…
Обеими руками он вцепился в сундук, краем торчащий из-под лавки, упёрся в пол ногами и, тужась, выдвинул его со скрипом на середину. Тяжеленный сундук, старый. Грач отбросил крышку, сунулся в него едва ли не с головой. Наскоряк выхватил со дна вещи, походную одежду – любую, какая попалась. «Всё, что ли?» – в раздражении прикинул. Ах, да! Ещё шапка, кушак и сапоги – без сапог всаднику нельзя. Да вот и седло, совсем новое, крепкое – Грач позабыл про него. Как раз для дальнего пути сойдёт.
Он поднял над сундуком голову, вскочил на ноги, огляделся. Что ещё взять? Дважды пробежал по горнице, собирая всё, что попадалось: нож – нельзя без ножа в пути, огниво, дорожную сумку. Возбуждённый замер вдруг перед столом, одумался, сообразил: нельзя же голодать в дороге. Запихал в себя кусок хлеба с варёной морковью, запил холодной водой. Пол каравая бросил в сумку – это на дорогу. Всё! Он собрался.
Выбежал из избы к Сиверко. Закинул на него новое седло и кое-как закрепил. Схватил оголовье.
– Стой, не верти головой! – прикрикнул.
Сиверко уворачивался от удил и, вывернув шею, тянулся зубами к левому боку. Ременная подпруга нового седла была перекручена дважды и стёрла бы кожу на конском боку до кровавой раны. Как тогда ехать? Грач охнул. Сник и расседлал всё напрочь.
– Молодец, Сиверко. Молодец, что не дался. А я, дурак, опять не в себе! Прости меня.
Сиверко чуть слышно проголосил в ответ.
– Верно, не к добру это, – Грач согласился. – Нельзя впопыхах. Я по утру поеду.
Он поплёлся в горницу и понуро сел на пол – прямо у сундука. Привалился к нему боком и загрустил.
– Весь дом не унесёшь с собой. Всё равно, многое оставлю…
Он перегнулся через край сундука, стал искать. Где-то лежало здесь самое дорогое… Он взял это с собой в год, когда его изгоняли из посада. Взял на память. Ах, вот и нашёл! Грач потянул, и небесно-синее полотно взвилось туманом-облаком. Кушачок, чудесный платок его матери.
По рукам струилась легчайшая, неведомой природы ткань… Да полно – ткань ли это? Нитей здесь нет. Узор причудливый, золотой, будто огонь горит и трава вьётся. В маминых руках кушачок оживал. В его руках – нет, ни разу. Но стоило маме покрыться им да коснуться земли, как мама становилась птицей. Вилы рождаются в таких кушачках, как иные люди рождаются в сорочках. Вилы лелеют их пуще глаза, потому как, утратив, теряют с ними свой дар. А без него не летать им всласть по небу, не кружить над полями и реками.
Грач сберёг его. Сам-то не мог стать птицей, но всё же сберёг. Так хотелось порой улететь в облака. Грач вздохнул и сложил платок. Тончайшая ткань, много раз свёрнутая, уместилась на ладони. – «Вилам кушачок покажу – по-доброму встретят», – решил наконец.
Напоследок выискивая, не забыл ли чего, опять заглянул в сундук. Ну-ка… А что вот это такое… Из кушачка выкатилось? Грач поймал вещицу, извлёк её на свет и – обомлел. Дыхание перехватило.
«Ой-ё-ёй, мамочка… Это же мой Огнич…»
В руках у него оказалась маленькая восковая свечка. Небольшой столбик воска, украшенный по бокам причудливыми зверями и травами. Оплавленный верх, обгрызенный низ… Любимая детская игрушка.
«Мама моя! Как он попал сюда?» – Грач давно позабыл о нём. Думал, пропал, потерялся, истаял лет пятнадцать назад… Грач заёрзал, поднялся на колени, держа игрушку перед собой. Так и есть – это Огнич! Неужто притащил его шесть лет назад с другими вещами да бросил в сундук незамеченным? – «Ведь это же Огнич, мой Огнич…» – Грач снова сел на пол. Встреченное детство было таким живым и осязаемым, что слёзы на глаза навернулись…
…Он не помнил, когда появилась эта свеча. Не помнил, кто подарил её и как. Мама говорила, будто первое, что он сделал, это сунул свечку в рот и обгрыз ей конец. А после не расставался с ней. Всюду таскал её, играл с ней и даже спал, прижав её щекой к подушке. Так было до того дня, когда с предательскими слезами он вдруг решил, что вырос и детский друг ему больше не нужен. Так он забросил её. Отрёкся. Потерял и лишь иногда с чувством вины вспоминал, как кого-то преданного.
Мама рассказала ему, что в каждой свече живёт добрый дух – Огонёк, сын Солнышка. Так и стала свеча Огничем. С Огничем он делился тайнами, обидами, радостями.
– О-о-огнич, – провыл, дивясь самому себе, Грач. – Ведь я же обещал, я же клялся стать счастливее, чем есть. А вот предал тебя, бросил, потерял – и сам как и ты стал никому не нужен и всеми позаброшен…
Почему-то вдруг затряслись губы, и откуда-то из глубины легких, через гортань, сотрясая его частыми уродливыми судорогами, прорвались рыдания – горькие, сокрушённые, страстные. Слёзы лились по щекам, он не сдерживал их, дав им струиться по лицу и капать на пол.
– О-огнич! Дорогой мой О-огнич, прости меня! Я мерзок и отвратителен, я приносил другим зло. Я проклят, и я – изгой!
Хриплым баском он выл сам себе в голос, плюясь при этом и фыркая, как бывает, когда редко и в одиночку плачет мужчина.
– Я стал другим, понимаешь? Ты всё такой же – добрый и тёплый. А я – негодяй и убийца. Я просто так, от нечего делать, загубил три жизни. Ты прости меня… – он подавился плачем, судорога помешала вдохнуть. Задыхаясь, он размазал ладонью по лицу слёзы.
Он повалился на спину и долго ещё сотрясался всем животом и грудью, потом обмяк. Он молил Огнича вернуться к нему и более не бросать его. Молил помочь – хотя бы в слезах и в раскаянии. Потом судорожно, как в детстве, вздохнул всеми легкими и сел. Слёзы иссякли.
Когда-то, когда он был ещё добр и чист и радовался небу, он зажигал свечу и видел в огоньке пляшущую зелёную ящерку. «Это Саламандра, – говорила мама, – добрый дух света и огня».
Ещё до конца не веря, Грач поднял огниво и высек огонь. Зажёг свечу и поднес её близко к глазам.
Из пламени глядела на него умная и ласковая мордочка. Длинное изумрудное тельце, шустренький хвостик. Ящерка.
– Привет!
Пляшущая в огне Саламандра оказалось точно такой же, какой он видел её в детстве.
– Привет, – произнёс Грач. – Так это правда?
Он поднялся на колени, потом встал, держа свечу перед собой.
– Ты изменился. Ты повзрослел, – заметила Саламандра.
Грач бережно поставил свечу на стол. Отступил на шаг. Видение не исчезло.
– Я-то помню тебя ребёнком, – Саламандра приплясывала на пламенеющем фитильке, взбегала по нему, обвивала его хвостиком. – Ты играл со мной, хотя я и старше тебя! С детьми легче, они искренни и доверчивы. Вот, были бы у тебя свои, мне было бы легче воспитывать их, чем тебя!
– Да ну, – Грач смущёно опустил глаза. – Я, правда, любил одну…
– Что же – это так быстро прошло? – по-птичьи прощебетала Саламандра.
– Долго говорить… Да ты, пожалуй, и так всё знаешь. Про Руну и про меня.
– Всё же попробуй… Дерзай, мой друг, дерзай! – Саламандра подбодрила.
Грач помолчал, не зная, с чего начать. Решился:
– Не друг для друга мы с Руной живём, – выговорил он. – Только и всего. Я был глуп и связывал с ней свои надежды, а они вдруг – хлоп! – куда-то пропали. Вот, спрашивается, зачем мне было мечтать о ней? Поверь, я вправду был готов перемениться, едва она позовёт меня. Может быть, я и сейчас мечтаю – хоть знаю, что ничего уже не будет. Да я изначально знал, что так случится! Мои беды – они со мною, они во мне. Понимаешь?
Вот, вспоминаю детство и не помню безмятежности. Маму помню, как она со мной мыкалась. Отец еле помнится – его увели на войну. Вот помню его сапоги, а выше я и не доставал… Мама к вилам не вернулась, так здесь и осталась. Как ей уйти – за столько вёрст с ребёнком? О! В землях вил есть сады, чудо-деревья, плоды, брызжущие соком! А у нас? Мы коневоды, у нас стойла и выгоны. А она вила, она близко к коню не подойдет. У нас в доме и овцы-то не было.
Помню – хромой сосед дрова нам рубил. А ещё изредка женщины помогали, да больше всех – Власта. Она-то и взяла меня к себе, она маме подругой. Тоже одна, без мужа, с дочерью. Со мной тяжело было, я видел, потому только подрос вернулся в дом отца. Я-то считался ведьмёныш, потому как – вилин сын. Я дрался. Путьша Кривонос бил меня, а Златовид – его.
Златовида с пелёнок знал. Настырный такой, нагловатый. Себя за вожака держал. Пацан к пацану – нас уже тогда целая ватага была. Мы-то как бешеные были. Кто без отца, кто без матери. Нам до жути радостно было, что где-то война – далеко, за Степью, но ведь война! Рассыпалось Братство. Развелись конокрады, на реках – ушкуйники. Удали нам хотелось, вольницы! Мы в ту пору как не в себе были.
Мы уходили в луга, в ночное. Там было старое тырло, укрытие для коней, в нём мы и обретались. А чуть стемнеет, хватали коней, с головой накрывались плащами – белыми и с дырками для глаз – да неслись по улицам. Боялись нас, аж окна запирали, а нам и сладостно. Коней крали – покататься, загнать до пенного пота и бросить. Кто не по нраву, того избить могли, подворье сжечь. Девок ловили. С нами люди не связывались – лишней мороки боялись.
У Злата с языка Чаика не сходила. Знаешь ли о ней, Огнич? Чаика… Ладисова невеста. Вот уж не кстати Ладис тогда подвернулся… Путьша возьми да и брякни: «Далась она тебе, что ли, достал уже всех своей Чаикой». А Златка аж завёлся: – «Далась, далась! Спорим, что даст», – а мне и говорит: – «Приведи сюда Чаику. Ладису насолить хочешь? Вот и приведи мне Чаику».
У Ладиса сестрёнка была, Снежка, нам ровесница… Нравилась мне… Ладис поймал меня, когда я к Снежке в окно забирался. Ушей не надрал – пообещал только, а я обиду затаил. Дурной я был, злой. Теперь-то и лица Снежкиного не вспомню… Так вот, это я Чаику к Златовиду вызвал. Сказал, приходи на старое тырло, весточка есть от Ладиса. Она удивилась, а пошла. Не было меня с ними. Что было там, я не знаю. Только… Вина на мне, Огнич. Утопилась она. Из-за меня, из-за моей досады на Ладиса, утопилась.
Ладис как помешанный сделался. «Убью, – говорит, – и Злата, и всю его ватажку». Он и не таких бил. Тоже – голова горячая. Ратник! Один на всех вышел. Наши встретили его ночью и забили до смерти. Долго, говорят, били, жестоко – звери мы были, зверёныши. Баба, которая труп по утру нашла, чувства лишилась. А меня в ту ночь не было. Я нашу базу стерёг на старом тырле. Балахоны стерёг, плащи с дырками для глаз. Вот и не предупредил Ладиса. Побоялся: трусил ему на глаза показаться. Выходит, опять мой грех?
А по утру побежал к Снежке. Утешить её, как мне думалось. «Не бойся, – шепчу, – всё забудь, успокойся». Она плачет и льнёт ко мне – к плечу, к груди льнёт. У неё же не осталась никого, а тут я – как будто бы свой, наполовину к беде непричастный. Она плачет, и у неё ноги подкашиваются. Когда горе, тогда как на грех любить хочется. Ей после меня в спину кричали с плевками: «Братоубийца!» – сам это слышал! Потому как она со мною, с убийцей брата спуталась.
Не сберёг я её. Оставил по глупости. На день или на два позабыл о ней – только и всего. Она и пропала. Сгинула. Говорят, за Брынские леса ушла к отшельницам, а может, и утонула, как Чаика, или умом тронулась. Ни следа, ни вестей. Опять, получается, мой грех? Третья душа на мне.
Златовид со всей ватагой сбежал. «Всё, – заявил, – за ум берусь. Еду к старому Нилу учиться». Тогда все за ним и съехали, а уж куда попали, не ведаю. То ли в ратники, то ли в ушкуйники. Я остался. До конца не виновен, но кругом виноват. Судили меня. На сходе всем миром порешили: от общины меня отлучить, отцов дом отобрать, меня выселить… «Изгой» это называется. «Отщепенец».
Хутор этот – не хутор вовсе. Так… Заимку отец строил, выселки. Так и не достроил. Мне досталось. А Грач – это кличка за чёрные волосы. От отца – достались выселки, от матери – чёрные волосы. Так и зовут меня: Грач с лесного хутора…
…Он долго каялся, глядя в крохотные и понимающие глазки скачущей в свете свечи Саламандры. Он говорил о терзавшем его, о болевшем. Саламандра не прерывала его и слушала. Потому как покаяние не имело бы силы, если бы не было здесь того, кто слушает. Не прощает, нет, не оправдывает, а лишь слушает.
Грач не вытерпел тишины:
– Так что – это мой приговор? Никчёмной загубленной жизнью искупить вину за тех, чьи жизни я загубил?
Саламандра молчала. Огонёк плясал, и дух огня трепетал в его свете. В колебании свечи увидел Грач, как Саламандра вздохнула. Послышался голосок, стрекочущий, как сверчок тихим вечером:
– Может быть, от тебя никто и не требует таких терзаний. Я не знаю. Мир вокруг болен. В жару, в поту. Впрочем, лучше для тебя мыслить себя виновным, чем неповинным!
– Как это может быть! – всколыхнулся Грач, подаваясь вперёд, к пламени и свету, но свеча уже гасла, и лишь дымок вился над красной точечкой фитилька.
Встрепенулся Грач – и нет перед ним Саламандры. Восковая свеча стоит посреди стола, она ещё тёплая, податлив воск у её горлышка, а он сидит у разбросанного сундука и смотрит, как на боках свечи застывают струйки воска.
Грач тронул возле фитилька расплавленный воск. Обжёгся. Снял с мизинца застывшую как вторая кожа плёнку горячего воска. Красная точка на фитильке вздрогнула и погасла.