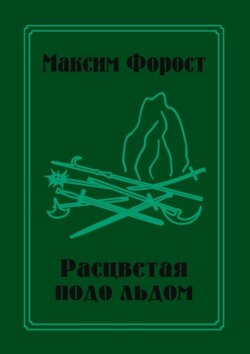Читать книгу Расцветая подо льдом - Максим Форост, Максим Анатольевич Форост - Страница 6
Часть первая
Огнич
Глава IV
ОглавлениеНа следующий день Грач углядел всадников из Залесья едва ли не на середине просеки. Злат вошёл в избу, почти пританцовывая, как спущенный с коновязи жеребчик. Его верноподданные Скурат, Добес и Верига переглядывались и хмуро озирали дом. Злат отцепил от пояса ножны с палашом, присмотрелся и повесил на видном месте, на вбитый в стену гвоздь. Отошёл на шаг и одобрительно кивнул.
– Мы у тебя похозяйничаем? – то ли спросил, то ли разрешил сам себе Злат. – Лавки переставим, чтобы людям сесть как надо.
Грач пожал плечами. Скурат с Веригой заскрипели по полу тяжелыми дощатыми лавками.
Первым явился кузнец Бравлин с подмастерьем. Шагнул в горницу, вдохнул, чтобы на весь дом поздороваться, да что-то засмущался. Уселся на лавку у стены, сложил ручищи на коленях и уставился перед собой на палаш, часто моргая и не шевелясь.
– Что, мастер, нравится? – негромко спросил Златовид. – Смог бы такой же сработать?
– Смог, конечно! – с готовностью гаркнул кузнец и опять смутился. – Только не наша это работа, – добавил потише. – У нас змеев не делают. Это дэвская работа, таких за Степью полным-полно. Их ратники сотнями притаскивали!
– Ве-ерно, – похвалил Злат, но как-то кисловато. Не понравилось ему, как определил кузнец, откуда палаш мог взяться.
В сенях затопали, отряхивая снег. Вошли Гоеслав и Млад, а за ними, чуть замешкавшись старый воин Ратко.
– Добрый-добрый день! – Злат вышел навстречу. – Как погодка?
– Зима, право слово! – проворчал Гоес. – И снег, и тучи…
Посадские прошли, расселись на лавках поближе к Бравлину.
– Такая вот жизнь, – обронил Гоес.
– Тяжелая? – живо уточнил Злат, стоя к нему боком и глядя себе под ноги.
– Да есть, от чего потужить! – согласился Гоес. – Я говорю, вот как той осенью ни одного коня не продали, так и с весны купцы жмутся. В Степи, сказывают, кони дешевле да лучше! За что только воевали… Конюх Мироша Чурилыч говорил уж, небось?
– Понимаю, – кивал Злат, – понимаю.
– А ты пожалей, пожалей его, Златовидка! – раздалось напористо. Гоеслав аж вздрогнул.
В дом входили слободские конновладельцы – Венциз и его брат. Венциз отдал кому-то шапку, кажется Вериге, топнул ногой, сбивая с сапога снег, и прошёл на середину горницы:
– Здрасьте вам всем! – (Старший брательник его держался у него за спиной).
– Да что же мне, в убыток хозяйствовать, себя обделять, что ли? – заворчал Гоес и вдруг вскочил, тыча в Венциза пальцем: – А ты, ты мне, в родной посад – в общину, где голоштанным бегал! – коней втридорога продаёшь! За чубарого в яблоках столько запросил – на те деньги бархату сорок локтей купить можно!
– Мои кони ценные, – точь-в-точь как Изяс, перебил Венцизслав. – Мои – упряжные, тяжеловозы.
– Да на твоём дворе, – вскипел посадский конюший, – на твоём дворе все кони краденые!
– Как так! – Венциз аж задохнулся.
– Краденые, краденые! У меня, у него и у него краденые, – Гоеслав ткнул поочередно в себя, в Млада и в Бравлина.
– Врешь, конюший! – Венциз поднял кулаки. – Кто хотел, тот и уходил из общины! Честный дележ был! Я как все жребий тянул. Сам в слободе конный двор ставил, у тебя помощи не просил. Никому не должен! А что после Рати не верховые, а упряжные кони понадобятся, это тебе и Ладис говорил, покуда жив был. Он тебе, тебе первому житья не давал. Это ты, ты натравил на него вот этих, которые тут сейчас… – Венциз в запальчивости махнул рукой на Златовида и Грача, да вдруг прикусил язык и втянул голову в плечи. Исподтишка глянул на Златовида.
Златовид, чуть скалясь, улыбался, держа руки на поясе и покачиваясь на носочках. Грач медленно покрылся испариной, по спине побежали мурашки, ноги одеревенели. Венциз крякнул и поднял к затылку руки, чтобы поправить шапку. Шапки не было, он пригладил волосы.
Все молча глядели в пол, только староста Млад неуютно покашливал. Венциз зачем-то посмотрел на Грача и поморщился. Грач напрягся, можно подумать, его считают главным виновником того, что случилось. Он перехватил взгляд Златовида. Злат презрительно усмехался.
– А ты, брат, загнул, что сам свой двор ставил, – пробурчал, спасая положение, Гоеслав, – не про тебя это: тебе пузо мешает!
– А пузом и тебя не обидели, – не спустил Венциз, оба перешли на личности.
– Да у тебя тоже матерний дед – водяной! – не унимался Гоес. – Домовой шалит, леший в чащу заводит, а водяной топит. Топит!
– Врёшь!
– Ша, ша, ша! – остужая, подскочил Златовид.
– Не водяной, так жихарь!
– Врёшь! Врёшь!
Златовид зыркнул на Скурата. Рыжебородый пихнул в бок Венциза, с силой надавил и усадил его на лавку подле Гоеса. Сам сел между ними. Ругаться через его голову стало неловко, перебранка погасла.
– Мы же собирались говорить о Плоскогорье, – упрекнул Злат и голос у него вдруг сделался жёстким. – Я пришёл не с пустыми руками. Но принёс не подарки. Принёс напоминание о долге! О долге человека, чистого пусть не по крови, но по духу, – стрелок уставился на Венциза, конновладелец под его взглядом съёжился. – Долг! В исполнении долга – ваше спасение. Вождь стрелков всеславный Вольх Вещий купит ваших коней – верховых, упряжных, любых. Стрелкам нужны кони. Потому как много месяцев уже идёт война с теми, кого зовут нечистью.
Над головой Златовида висел на стене тяжёлый палаш с почерневшей от пота рукоятью. Плоскогорские старшины и конновладельцы молча подняли на него глаза.
– Я пришёл не один. Со мной пришла весть о войне. Лобасты подняли мечи в горах. Лешаки взялись за топоры на Смородине. Из городов им платят серебром жихари и богарты, что торгуют вином и опьяняющим зельем. Обидам нет числа, а память им – многие поколения. Водяной всего лишь топит, но берегини, русальи и вилы совращают наших бойцов на блуд, чтоб чистые люди выродились, чтобы некому было биться.
– Вон отсюда… – выдавил Грач. Это Златка напоминал ему, что он – вырожденец и полунечисть, что его мать будто бы совратила отца. – Вон отсюда… – выдавил он, но никто его не услышал, и он проглотил оскорбление. Грач не встал, не ушёл, не хлопнул за собой дверью. Ведь это его дом, покидать-то свой дом он не собирался.
– Вы помните? Полвека назад они жили на этой земле, – Злат топнул ногой, – вот, в Навьем лесу, – он показал рукой за окно. – Они платили за соседство злобой, а наши лошади не подпускали их на пять шагов. Вы помните, как наши деды вступили в Опричное Братство и выгнали нечисть из Плоскогорья?
– Было, это было! – заволновался старый опричник Ратко.
Златовид перечислил все ссоры и столкновения с лесным и водяным народом, всякого рода вилин морок, навью порчу, ведьмины круги, дурной глаз, пагубу скота, наведённый сап, насланный ящур, накликанный падёж. Венциз-коневод ушёл в себя, словно рак в раковину, и выглядывал диковато, выжидая, чем дело кончится. Бравлин неуютно мялся, бестолково разглядывая ладони.
Уже вечерело, огня в темноте никто не зажигал. Златовид говорил о подхваченном знамени и о крепких руках, охраняющих покой в низовьях Жаль-реки и Пучая, говорил о битвах в горах и лесах, а Скурат расписывал поход к Чёрной Грязи некоего Гвездояра. Оказалось, Злат принимал участие в приступе Калинового Моста – тот город был полон нелюдских слобод. А ещё Злат говорил о марше вверх по Смородине и о лешаках, вооружённых булавами и секирами.
– Лешаки – злые… У них – топоры, секиры, пращи с камнями. Мне говорили, что перед боевым топором меч – ничто, я не верил, а теперь знаю, – Златовид вдруг охрип, и слова стал выговаривать нечётко. – Они нас ждали… Кто-то предал, завёл в засады. Но те убиты – те, на кого я думаю… Полк поредел, а их больше, много больше, чем нас. Гвездояра нет, полк разбит, а я – тут. Я тут, а Вольх ждёт, когда вы исполните свой долг.
Вдруг его губы искривились, и Грач понял, что Злат не играет. Злат глядел мимо всех в угол горницы. Пережидая спазм, он бесцельно поправлял перевязь. Потом постарался взять себя в руки и что-то сказать – кажется, про Путьшу и Ярца, про местных парней, но только кадык прошёлся вверх-вниз по горлу.
– Гм, – издал Гоес, – понятно… А Ярец – хороший был мальчик… Ну, и Путьша тоже.
Злат вскинулся, упёрся глазами в Венциза:
– Да будь у нас кони – мы бы лешаков порубили. К коню ни одна нечисть не подступится! Вот потому-то Вольх и купит коней – много, дорого, любых! А за парадных – особо заплатит. Они нам, когда победим, пригодятся. Эй, Бравлин! Нужны подковы, сбруя, доспехи и оружие! Бравлин, можешь нанять работников. Станешь нашим оружейником, – назначил Златовид.
Кузнец вздрогнул и забормотал что-то невнятное.
– Кожевники нужны, – предположил Млад и умолк, испугавшись.
– Нужны! – неожиданно поддержал Гоес. – От них же сёдла и упряжь.
Всему Плоскогорью было известно, что община общиной, но старший конюший имеет негласный доход от частных шорников.
– Кожевники тоже годятся, – решил Златовид. – Опытные мастера-то хоть есть?
– Все мастера в Залесье, – перебил Венциз. – А лучший – Севрюк, коновалов родич.
– Севрюк? Я запомню. Севрюк… – отметил Злат. – Нам не только сёдла, нам для всадников сапоги нужны.
Коневоды зашумели, перебивая друг друга. Нашлись и сапожники, и скорняки, и медники – делать удила и трензели, и деревщики – тачать для стрелков стрелы, и точильщики – затачивать для стрел наконечники.
«А слаще мести и обид – одна только власть бывает. С ней даже слобода медоваров не надобна, пусть они хоть всей артелью расстараются…»
Без шлема, но с мечом у пояса, не задерживаясь, шёл по горницам Язычник. Клок волос вздрагивал на его темени. Свет мерцал в зеркалах и на гранёной плитке, туманился по шёлковым обоям и пропадал где-то в тени на высоком потолке. Ещё одни тяжёлые двери раскрылись. Следом за ним вошёл и Зверёныш. Держась за правой рукой Язычника, он изображал оруженосца.
– Роскошествуют они тут, – презирая, бросил Язычник. Свет из стрельчатых окошек неуверенно метался по полутемной зале. – А вот я – воин. Сплю, кладу под голову седло.
– Тут в пору князю жить, – протянул Зверёныш, оглядываясь.
– Он и жил, – откашлялся Язычник. – Его это дворище было. Теперь тут совет посадников.
Их встретили. Высокий человек с бородкой назвался тысяцким. Ещё шестерых крепких мужей тысяцкий назвал «градскими старцами».
– Старейшины лучших в городе семейств, – пояснил он, и «старцы» горделиво качнули чёрными бородами.
– Чего посадники не явились? – оборвал Язычник.
Тысяцкий приосанился и надменно сказал:
– Я уполномочен сообщить, что наш господин-город Калинов Мост берёт тебя, Вольгу-лучника, на службу. Но злодей и вор Язычник пускай за стеною останется.
– Кому-то я тут не нравлюсь? – Вольга-Язычник выдохнул, отцедив воздух сквозь зубы, а Зверёныш даже руку на саблю положил от его голоса. – Посадникам моё золото не по вкусу пришлось? Или мало оружия мои люди им показали?
Тысяцкий недовольно поворотил нос и, сдерживаясь, неторопливо выговорил:
– Лучшие люди города постановили, чтобы ты жил не здесь, не на прежнем княжьем городище, а там, за городом, и чтобы людей держал при себе не более пятисот, и чтобы кормился от артелей медоваров и рыбников, но не сверх положенной меры. Весною лучшие люди дозволят тебе распахать поле, какое укажут.
– Укажут? – Язычник не вытерпел. – Лучшие люди – да кто это, чем они лучшие?
Тысяцкий закатил глаза, попросил Долю-Судьбу о терпении и выговорил, глядя поверх головы Язычника:
– Купеческие сотни суконников и шелковников держат иноземную торговлю и связи с Буяном-островом. У них – деньги, люди, корабли, пристани и товары. Они велят тебе, Вольге-лучнику: в город ты не вступаешь, а дозорами и разъездами бережёшь дороги и подступы. Сверх того ты обязуешься извести на Смородине и Чёрной Грязи речной разбой и ушкуйников, что помимо тебя до сей поры имеются.
Язычник выслушал, а Зверёныш не понял, что отразилось в его глазах. Сам бы он ни за что не спорил с теми, кто так глядит.
– Это с пятьюстами людей? – тихо спросил Язычник. – Порядок в городе и его охрану – пятью сотнями бойцов?
Тысяцкий мотнул головой:
– Нет, не охрану. За тобой одни дозоры. Порядок в городе берегу я с моим ополчением. Я же – тысяцкий.
– Стало быть, я, вооружённый, – протянул Язычник, – даже при беспорядках не выхожу на улицу без твоего ведома?
Полные сил «градские старцы» закивали. Тысяцкий важно молчал. На том и расстались. Зверёныш сопровождал Язычника до выхода из палат и с дворища. Последние ворота закрылись за ними.
На мостовую, мощённую камнем, мелко сыпался колючий снежок. Вдоль улиц гулял ветер, холодом тянуло с ещё не замерзшей реки.
Прямо на улице их поджидали. Они назвались старостами промысловых соседств. Назвались по одному – медовары, рыбники, солевары. Ждали его давно. С утра, наверное, если судить по замёрзшим носам.
– Мир вам, Всеславный Вольга, здравствуйте, Вольга Вещий, – кланялись они уважительно в пояс, но без заискивания.
Язычник приостановился. Склонил бычью шею, будто в ответ поприветствовал:
– Чем сумею, помогу, – сказал, – просите. Я при золоте, при людях – если кому ссуду или защиту надо, спрашивайте. От избытка и барахлом помогу. Или рассудить с кем по правде? Мне тут… милость от посадников вышла! – он усмехнулся: – Жить за стеной города, да в кормлении поприжаться и в людях урезаться. Чего ж вы попросите?
Старосты отошли и живо промеж себя заговорили. Потом закивали головами и выпустили вперёд медовара:
– Мы тут сообща порешили, – сказал он, зачем-то потирая руки. – Ты, Всеславный, сверх посадничьей меры кормись-ка у нас. И воск, и мёд тебе будет, и рыба вон от него, – он показал на старосту рыбников, – и солонина кое-какая.
Язычник опять усмехнулся, довольно и властно:
– А скажите-ка, людишки добрые, вот за пристанью чьи улочки идут рядами?
– За пристанью? Так чёрный люд, – староста удивился. – Ярыжки всякие: посадские людишки работные. Гребцы, бурлаки, подёнщики.
– А далеко от них гостиный двор Буяна-острова?
– Так сразу за торгами! Тут торжище, а там – гостиный двор.
– А тот гостиный двор, он и вправду как город в городе?
– Еще бы! Своя стена с воротами, свои законы, свой суд! – староста оживился. – Подданство у них своё, буянское. Если на буянца жаловаться, то не к нам надо идти, а к ним. А народец-то у них, так скажу, разный, – староста кисло поморщился. – Людей-то больше всего, врать не стану, но есть и фавны, и сатиры.
– Любят их? – обронил Язычник. – Ярыжки-то ваши?
– А чего, фавнов, любить? Шелка их даже нам дороги. А ярыжкам шёлк вовсе не по чину.
– Так-так, – Язычник запоминал. – А что, мил друг, ваш тысяцкий и вправду большой человек? Без него ни людей собрать, ни волнения пресечь?
– У-у! Тысяцкий в Калиновом Мосту – набольший человек по старшем посаднике!
Язычник ухмыльнулся, а Зверёныш не забыл эту ухмылку. Спустя много дней и месяцев – и то вспоминал её. Чёрная была улыбка – то ли из-за давно выбитого зуба, то ли тень так на лицо упала.
Позднее – а произошло это дня через три – некие молодцы с луками заняли среди ночи улицы вокруг двора тысяцкого. Далеко за кузнецкой слободой загомонили, истошно взвился и угас бабий крик. Заиграло по ночному небу зарево. Дыма ещё не чувствовалось, но ветер вот-вот донесёт его. Смута, как говорили, началась с торжища, что за пристанью.
Зверёныш распоряжался лучниками. На дворе тысяцкого за бревенчатой оградой, почуяв огонь, залаяли псы. Завизжала девчонка-подросток – дочка тысяцкого. Топоча, забегали по двору люди. Распахнулось над воротами слуховое оконце.
– Стреляй, – Зверёныш первым спустил лук.
Десяток стрел утыкали ворота. Оконце тут же захлопнулось. Собак дрожащими голосами уняли. Тысяцкий на всю ночь оказался заперт у себя в тереме.
Позже говорили, что погромы начались из-за буянского фавна-шелковника, который то ли обсчитал, то ли вовсе отогнал от лотков бурлака с чёрной слободки.
– Не по рылу портянки, – так и сказал, говорят. Те всей артелью обозлились, разнесли шелковникам столы и лавки и, вроде бы, убили того фавна.
Другие говорили обратное: мол, кто-то из ярыжек украл штуку шелка, а фавны и сатиры выследили его и долго избивали. Полуживой, дополз ярыжка до своих и просил всю чёрную слободку за него рассчитаться.
Третьи и четвёртые говорили своё: с разных углов торжища виделось разное. Но полгорода видели, как сатиры и фавны с воплями несли убитого по улицам. Все как один – кучерявые, узкоглазые, коротконогие, все в один голос кричали, требуя:
– Розыска! Розыска! Суда и расплаты! Розыска!
Навстречу с чёрной слободки выбирались угрюмые ярыги с дубьём и кольями. Кто-то крикнул про «козлоногих». Смута охватила весь торговый конец города. Бросив товары и спасаясь, буянские подданные фавны, сатиры, наяды, дриады и прочие укрылись в гостином дворе за высокими стенами. Гостиный двор сел в осаду, а кругом него по всем улицам загорелись дома жихарей и богартов, живших в Калиновом Мосту отродясь. Ярыги опрокинули на улицах рогатки, снесли заставы и избили цепами для молотьбы стражу.
– Разгуляюсь, кровушки отведаю! – вопил волосатый бурлак с топором, когда ломились в ворота гостиного двора.
Пробил и оборвался набат – кто-то вооружённый луком не допускал бить тревогу и сзывать городское войско. Погнали конного гонца к тысяцкому, но гонец пропал и не вернулся. Парни Зверёныша сбили его с коня на мостовую, скрутили и бросили под забором. Только толстогубый Ярец нагнулся к нему и промямлил:
– Ты это… Короче, не рыпайся. Тут всё по-правильному, по-нашему.
В ночи пламенем до неба заполыхали приказные избы суконной и шелковной купеческих сотен. Те, кто видели, клялись, что избы заполыхали с крыш, как бывает лишь от осадных стрел с горящей паклей. Но ни стрелков, ни самих стрел так и не нашли (на то и улики, чтобы сгореть без следа).
День спустя на вечевую площадь стащили мёртвых, и приказный розыскной дьяк лично пересчитал тела. С его слов записали, что умерло от огня и побоев тридцать сатиров и фавнов, но очевидцы уверяли, что убитых было более ста и все они работали прежде на лучших людей города.
Гостиный двор тогда выстоял. Его частокол с одного боку зажгли, но сырые дубовые бревна не разгорелись. Три дня буянцы не выходили из крепости. Только раз или два люди видали голубей, что уносились с гостиного двора в сторону моря и Буяна-острова. Позже пришли корабли, и буянский двор опустел. На нанятых кораблях длинной вереницей уходили вниз по реке буянцы, навек покидая Калинов Мост. Жить и торговать здесь стало смертельно опасно.
Месяцы спустя, когда обыватели пересказывали, что происходило на самом деле, они боязливо оглядывались на бывшее княжье дворище, где жил теперь Вольга-Язычник. На днях, сказывают, кто-то подрубил на звоннице крепления, и вечевой колокол с гулким боем сверзился на мостовую и раскололся. Кусок меди, отлетев, попал в голову лошади посадника, что нечаянно оказался на этом месте в этот час.
А еще, старые артельщики сказывают, что болтунов, пересказывающих такие вещи, после вылавливают в реке пониже города – всех как одного с выдранными языками.
– Как теперь не почитать благодетеля? – спрашивал дед-артельщик. – Не спрашивай меня потом, почему молчали да не возмущались. Почёт и слава ему, отцу-то родному. Без славы она и власть не всласть, – так все говорят: и медники, и коновалы, и оружейники, и шорники.
В тот вечер коневоды разошлись за полночь. Уходя, Венциз щурился, что-то подсчитывая, а Гоеслав весь лоснился от важности. У просеки на распутье опять остановились и долго размахивали руками, крича про кузницы и шорников. Когда разошлись, то Грачу казалось, что они и через лес перекрикиваются.
«Это не моё дело, – решил Грач, – я им не советчик», – он гнал от себя досаду, возникшую от слов Златовида, но какая-то пустота и ощущение никчемности сдавили сердце похуже недавнего. Из памяти извлеклось на свет всё, за что было обидно и стыдно: прежние грехи, изгойство, Гоесово пренебрежение, Златово снисхождение.
Миновал третий день, а на верстачке всё лежала, будто ненужная, шкатулка с подарком для Руны. Вот – само неумение объясниться с Руной терзало его. Грач взял заветную шкатулку, погладил резную крышку. Решился, сунул подарок за пазуху и выбежал к Сиверко. Понёсся верхом по просеке.
В Руне единственной, может статься, смысл его жизни. Без неё – пустота. Собственная ненужность раздавит его. Наверное, с Руной он изменится. Да нет, он горы для неё свернёт! Вот только бы… пусть бы это оказалось не мечтой, а правдой. Чтобы потом не презирать себя.
– Я скажу ей, сегодня же и скажу ей… – он запнулся. – Скажу, что в шкатулке – моя судьба. Она поймёт, сумеет понять, – он судорожно вздохнул. – Нет, я ей скажу, что в шкатулке лежит кольцо… Которое я сделал для любимой.
На первой улице в Залесье он увидал Власту. С корзиной для рукоделия она куда-то уходила.
– Тётя Власта! – окликнул он на скаку, догоняя её и осаживая Сиверко. – Здрасьте, рад видеть вас, – Грач, в общем-то, был виноват перед ней за недавнее и хотел извиниться.
– Коли так, здравствуй.
– В лавочку собрались? – он соскочил с седла в снег.
– Да нет, я – посидеть к приятельнице…
– Руна дома или ушла? – Грач не дослушал. Он был неестественно весел, бодр и, как ему казалось, полон решимости.
– Руна-то? Она тут. С девчонками и парнями погулять пошла. А ты что-то хотел?
– Жаль…
Действительно жаль. Шкатулочка тёрлась за пазухой. Мнимая решимость сменилась трусоватым облегчением. Может, оно-то и хорошо, что не сегодня?
– А какие новости? – поскучнев, спросил просто так, чтобы не обрывать разговора.
– Новости-то? – Власта загадочно заулыбалась.
Грач с безразличием уставился на шиповник, от нечего делать он склонился у плетня, чтобы отгрести от зеленеющего кустика снег.
– Руночке-то нашей в любви изъяснялись! – прозвучало над ним.
– Кто? – охнул Грач. Хорошо, что отвернулся к злосчастному кусту, спасло это, позволило с лицом совладать и дыхание перевести. – Да кто? – повторил омертвело.
– А Севрюк, – обрадовала Власта, – шорник с коноваловой улицы. Он теперь гордый стал, важный, как же, от Златовида заказ получил, – сообщила польщено. – Я, говорит ей, с детства тебя люблю. Представляешь?
– М-гм… – выдавил Грач, зачем-то озираясь и ощупывая под рубашкой шкатулку – где-то возле сердца и селезёнки.
– Но она его отвергла! – воскликнула Власта с таким восторгом, словно не дочери, а ей самой в любви изъяснялись.
Не успел Грач облегченно вздохнуть, как Власта добавила с едва скрываемой гордостью:
– А ещё Верига, Златов стрелок, к ней посватался. Руки попросил! Я, говорит, у стрелков в чести и в почёте! Но она и его отвергла. Представляешь? Двоих за три дня.
Грач стиснул зубы и взглянул на Власту. Та была счастлива. Кажется, в количестве поклонников дочери ей чудился какой-то личный успех. Грача передернуло. Озноб забил его, и он обхватил себя руками за плечи.
– Я смотрю, Верига ей больше понравился, – доверительно сообщила Власта. – Он и наездник видный, и собой хорош… Ну, что мне с ней делать? – она точно спохватилась, пряча женское счастье за материнским укором. – Что ты мне посоветуешь? Цветослав, ты ей почти как брат, вы вместе росли.
Грач взвился и, стискивая зубы, выкрикнул зло и обессилено:
– Почему я обязан советовать?! Кто я ей?…
Власта оторопела. Грач прикусил язык и добавил тоном пониже:
– Сама разберётся. Не маленькая.
– Не маленькая, – не слишком-то в это веря, согласилась Власта. – Сегодня её Златовид пригласил покататься на лошадях – так пошла, про Веригу не вспомнила, – заметила с иронией. – Ты, говорит, мама, и не думай, Злат мне не объяснялся, он просто друг, – и снова сквозь смешинки послышались затаённые радость и волнение.
– Златовид? – переспросил Грач, будто взмолился.
– Ну да… – Власта внимательно посмотрела на него. – А твои как дела? – вдруг сменила тему.
– Да, дела… – Грач заторопился, точно вспомнил что-то. – Пора мне. Едва не забыл.
Суетясь, он взобрался на Сиверко и во весь дух погнал его к хутору. А влетев на двор, едва расседлал коня, вбежал в горницу и с разбегу бросился на стену, колотя по ней кулаками.
– Тюрьма моя… Никогда, никогда мне не повезет… Гад я… Несчастный…
Шкатулка выскользнула из-за пазухи и ударилась об пол. Обречённый он уставился на неё. Она не разбилась.
– Ру-уна, – застонал он. – Ну почему? Почему опаздываю всегда я, а не Севрюк с Веригой? За что мне это наказание! – Он схватил шлифованный до зеркальной поверхности поднос. Оттуда на него глянуло чернявое с испуганными глазами лицо. – Это ты виноват! – крикнул он и врезал кулаком по зеркалу. Зажатый в руке поднос отшатнулся, глухо звякнул, отражение сделалось злым. – Ты тянул, ты медлил – зачем? Чего ты ждал? Боялся! Ты изменить себя и свою жизнь боялся. Ты – трус. Как же, что люди подумают! Изгой, а возомнил о себе! – Он запустил подносом в угол горницы.
Поднос со звоном отскочил, покатился, опрокинулся, крутясь и громыхая. Грач и сам вздрогнул от грохота. С дрожью прилетело отчаяние с готовыми хлынуть слезами.
– Почему именно я – изгой? Я же хотел малого. Хотел, чтобы она была рядом. Почему не сбылось? За что? – Вдруг в горечи пришло осознание: – Это мне за прошлое. За Снежку… За Чаику… За Ладиса… Три загубленные жизни. Загублена и моя, – осознание не облегчило муки, а обрекло на ещё горшие. – Что – не будет прощения? – спросил он, оглядываясь по сторонам. – Никогда? Даже если я признаю, что был подл, что хотел бы всё исправить, да не могу! Нечем.
Захотелось забыться и скорчиться на полу, как зародыш, а неподвижно лёжа, всё время надеяться, надеяться, надеяться… Он бесцельно ласкал и гладил шкатулку, будто утешал её:
– Ну, не всё, не всё ещё позади, верю, что не всё. Может быть, потом, когда-нибудь, если даст Судьба-Доля, что-то ещё сложится. Не сейчас. Пусть потом.
Он осторожно вернулся к Сиверко, поторчал на пороге конюшни. Жеребчик, брошенный впопыхах, потянулся мордой к кормушке. Грач вздохнул. Сиверко поднял голову, ласково ткнулся Грачу в плечо. Тот обнял его.
– Что, Сиверко, что? – Грач грустно улыбнулся. – Опять хочешь гулять?
Сиверко что-то пошевелил губами.
– Давай без седла, а?
Сиверко был не против.
Вырвавшись, жеребчик понёс Грача мимо леса, чуть подкидывая его, вцепившегося в гриву руками. Дорога вилась одна и та же, свернуть некуда, и потому принёс он Грача к Приречью и по привычке замедлил шаг перед кузнечным двором.
Грач издали услыхал стук топоров. Это было ново: в посаде давно не строились. Ватага посадских мужиков с гиканьем растаскивали крючьями и шестами старую кузницу по брёвнышку. Брёвна оттаскивали в сторону. Дощатый забор повалили. Рядом стояли стрелки да покрикивали, а из-за угла Бравлинова дома поглядывал рыжебородый Скурат.
– Эй, дай дорогу, Грач! – рявкнули сзади. Грач дёрнул коня в сторону, мимо проволокли свежеспиленные сосны с отсечёнными сучьями.
На отдалении Бравлин, морщась, как от боли, смотрел на слом своей кузницы.
– Бравлин, Бравлин! – наседали на него ловкие ребята из посадских. – Пиши скорей в подмастерья. Уж теперь-то в кузнеце навар будет!
Грач, уставившись коню в гриву, проскакал туда, где гомонила и волновалась толчея народу. Один мужичок проскочил мимо Сиверко и на бегу толкнул Грача в колено:
– Коробейники пришли, скачи давай!
Площадка и улица за кузнечным двором пестрели от лотков. На утоптанном снегу лежали ларцы и коробки, из-под крышек свешивался на снег яркий атлас, перетекали-переливались цветные платки и шали.
Громче всех выкликал офенский атаман в алом кушаке:
– Эх, подходи-налетай, гляди в оба, не зевай!
Грач признал Сланьку-коробейника. Сланька был свой, плоскогорский. Заломив на маковку шапку-боярку, коробейник цедил сквозь зубы товарищу:
– А мас в эту курёху ещё той меркутью прихандырил!1
Говорил Сланька на тайном языке – на фене. Сланька – потомственный коробейник, феня для него – речь изворотливых и успешных. От него Златик и Грач ещё мальчишками нахватались офенских слов.
Теперь к раскинувшему товар Сланьке чуть враскачку подошёл Златовид:
– Сланя, а ты ведь парень – смекалистый, да?
Сланька поднял лицо с хитрыми глазками:
– Ну-у? – пропел он.
– По дружбе скажу, Сланя, – Злат поигрывал палашом в ножнах, – тряпочками и ленточками ты много здесь не наваришь.
Сланька прищурился. Посмотрел на палаш в ножнах. Насторожился.
– Нет-нет, – успокоил Злат. – Я тебя не гоню, торгуй, если хочешь, но…
Помолчали. Сланька был терпелив, он поглядывал на народ, на стрелков, что были без кольчуг, но с саблями, и ждал продолжения.
– Вот, как сообразишь, что здесь к чему, так и войдешь со мной в долю, – Злат дал ему время осмыслить. – Вернёшься домой в Карачар – так не замедли, выйди на приказных из купеческих сотен со Святых гор…
Сланька присвистнул:
– Ха! Купеческие сотни Святых гор – не чета офеням. Совсем другая масть, слышишь?
– Слушай-ка меня, Сланька. Мне нужно железо, – попросил Злат. – Нужна выплавка для новых кузниц, – настаивал он. – Ты подскажи купцам, – посоветовал, – направь, дорогу сюда укажи. Без выгоды не останешься!
– А много ли надобно? – Сланька хитро заулыбался. – Целый воз тебе, что ли?
– Да нет, целый караван, – Злат стиснул зубы. – А потом ещё: караван за караваном. Плачу не я. Платит Вольх Всеславный.
Лицо у Сланьки вытянулось. Он даже глаза выпучил, соображая.
– Ты пронырливый, Сланя, ты во всякую дыру пролезешь, – уговорил Злат, махнул рукой на прощание и отошёл.
Коробейник хмыкнул, поглядел Злату вслед да процедил напарнику:
– То-то мас и зырит: полна трущей курёха2, – потом окинул глазами товар, хлопнул шапкой о колено и пустился в распродажу: – Бабоньки-девоньки, сударки-сударушки, подходи-подбирай – что упало, не теряй! У иных что не найдёшь – ворох у меня возьмёшь!
Сланька ловко отмерял парчу локтями да растопыренными пядями. Зазвенели серебряки, вокруг завязалась суета, толчея, колготня. Звон монет смешался с девичьим щебетом, мужичьим баском, бабьим говорком:
– Сланька! Ой, что это в шкатулочках? Бусики почём, а, Сланечка?
– А сапоги-то есть? А шапки? А кунтуши? Кунтушей нету!
– Сланька, а почём штука шёлка?
– Ворогу продам втридорога, а друзьям за так отдам, – Сланька как будто отшучивался, а сам косо поглядывал на стрелков. – Эх, налетай-выбирай! Шелка, атласа! Бусы, кольца, пояса! И продам, и поменяю! Что даёте, покупаю! Всё для вас, красотушки, всё для вас, лебёдушки!
Лебёдушки тут же принесли Сланьке своих шелков да атласов, а мужики попытались продать кто сапоги, кто шапки. Коробейник намётанным глазом признал товары из Калинова Моста. А в стороне стоял Злат и поигрывал ножнами с палашом.
– Целый караван тебе, значит. Оружейного железа. Понима-аю… – и Сланька толстым пальцем показал корешу-напарнику клейма калиновских мастеров на сапогах и шёлке.
Златовид многозначительно кивнул.
– Эх, дорогие-близкие, дешёвые-дальние, – сникшим голосом зазывал Сланька. – Новость я привёз приятную и даже бесплатную. По-ра-а себя наряжать, гостя доброго встречать. Ждите гостя скоро, бежит он споро, не купец и товар, а певец и гусляр…
– Эй, ты это о чём? Не томи!
– А ты купи сапожки да девочке серёжки! Добрый гость – что в засуху дождь. Боян идёт удалый – ни молодой, ни старый! В Карачаре уже бывал, я на два дня его обогнал… Асень! Асень к вам спешит. Завтра здесь будет.
– Погоди-погоди, да неужто… А-ах! – разлилось по базару. – Сам Асень идёт!
– Кто?! – взвилось над людьми. – Кто сюда идёт?! – Златовид аж побелел, не владея собой.
– Злат, ты чего… – крикнул и оборвался девичий голосок. – Это же Асень…
Это же вечный певец, дивный гусляр. Вот, говорят, что Асень с годами не меняется. Мать говорила Грачу, что и он видел Асеня в детстве, но только не помнит.
А Златовид вспыхнул и как сорвался, зашагав сквозь толпу. Все шарахнулись, когда он дёрнул из ножен палаш. Кто-то заахал, другой запричитал. На мгновение Злат замер перед Сланькой, коробейник открыл рот, заслонился руками с толстыми пальцами… Сейчас вот опять взметнется сталь, что-то хрястнет и плоть обрушится на землю. Златовид сдержался. Шагнул мимо Сланьки и ударил наотмашь по торчащему поверх забора бревну. Под палашом брызнули щепки, прочь покатился обрубок. Забор покосился, собираясь упасть.
Злат обернулся:
– Эй, Сланька. Добудешь мне железо, прощу! Мне только оружейное, караван за караваном, – и быстро зашагал к своим, туда, где ломали кузню.
С коня Грачу было видно, как возле кузницы Злат приступил к стайке мальчишек лет тринадцати-четырнадцати и, будто хвалясь, показал им палаш. Клинок был разочаровывающе чист и не дымился от крови.
– Златка, ну почему ты не убил его? Он же мошенник!
Златовид, щурясь, рассматривал требовательного пацана.
– Мы мечи ковать станем, – не ответил он. – Гляди и запоминай! Вот такой – зовётся палаш. А бывает «королевский» меч. У «королевского» конец скруглён, а по длине клинка – желоб. Знаешь зачем? Чтобы кровь стекала. А бывает кончар. Кончар без желоба, но гранёный, а конец острый и заточенный, как шило. Это чтобы и кольчугу, и рёбра – протыкать на фиг.
У мальчишек разгорелись глаза. Все с явным удовольствием потрогали лезвие и грани клинка.
– А есть меч и больше этого, – сказал Злат. – Скурат! Принеси кузнечные образцы!
Рыжебородый Скурат приволок завёрнутую в рогожу дюжину мечей и сабель всех типов.
– Разбирай, пацаны, кто какой подымет, – разрешил Злат, а сам подхватил тяжеленный двуручный меч. – Вот он, мой любимец. Череп раскроит – шлема не заметит! Гляди, как им рубят.
Он ухватил рукоять обеими руками, при этом правая легла чуть ближе к перекладине. Поднял меч, прочертил им сбоку от себя дугу и обрушил на воздух с басовым свистом откуда-то сверху, из-за спины. Меч прошёл в пяди от плеча одного из пацанов. Парнишка побелел, но не пожелал показать, как струсил.
– Здорово! – поклялся он с побелевшими губами.
– А то! – подтвердил Злат. – Гляди, а вот такие есть у лобастов и упырей, – Злат выбрал кривой, изогнутый меч. – Смотри, как всё у них коварно: у нас кривой меч затачивают снаружи как саблю, а эти сволочи точат изнутри как серп. Ятаган называется! Держат его остриём к себе и бьют снизу, с потягом, – Злат показал в воздухе. – Это чтобы не до смерти зарубить человека, а кишки ему выпустить. Нечисть, одно слово!
Пацаны, восклицая, разбирали ятаганы и сабли, пробовали сражаться. А Злат усмехнулся, крякнул да стянул через голову рубаху:
– Скурат, ну, поди сюда! – позвал, играя мускулами. – Ну, разомнёмся!
Скурат держал огромный топор с оглоблей вместо топорища. Злат поднял прежний свой палаш и приготовился. Стали биться. Злат извивался нагим торсом, отражая удары и атакуя. Мышцы на спине и груди пружинили, глаза блестели. Ребятня с упоением глядела на палаш. А рыжебородый описал топором дугу и сверху опустил его на Злата. Тот, отражая удар, еле успел подставить палаш под топорище.
– Во как! – крикнул Златовид. Палашом он удерживал над своей головой топорище, но лезвие колуна перевешивалось через клинок, двух пальцев не доставая ему до темени. – Вот чем коварен лешачий топор. Вы поняли? Ничья взяла! А чуть согни я руку, так и не было бы у меня головушки.
Он скинул прочь Скуратов топор и прекратил забаву.
– Боевая секира ещё страшнее, – проговорил он, глядя куда-то мимо ребят. – Лезвие у неё большое, гнутое полумесяцем, – тянул он, будто вспоминая что-то жуткое. – А если дальний конец полумесяца заточить, чтобы колол как пика, то это бердыш получится. А насадить бердыш вместо топорища на копье – так выйдет алебарда. А ежели с обуха ещё и острый крюк добавить… у-у… – промычал Злат, – это смерть переносная, таким крюком всадников с коня стаскивают, и латы, и мясо клочьями летят…
Злат оскалил вдруг зубы, вывернул губы и несколько раз пнул ногой снег.
– Здорово! – позавидовали пацаны, что сами такого не видали.
– Ничего, на ваш век хватит, – глядя мимо всех, бросил Злат.
А пацаны всё ещё перебирали лежащее на снегу оружие. Вдруг все вместе увидали Грача и разом повернули к нему головы:
– Гляди, это Грач едет! Он ведь убил кого-то, когда убивать ещё нельзя было.
Грач молча проехал в шаге от Златовида.
В тот зимний день, что случился перед самой весной, голые деревья были жёлты от солнца, струящегося через сетку ветвей. Вольга-Язычник настороженно ступал вдоль строя своей дружины. Дружина угрюмо молчала, и Язычник, остановившись, не сдерживаясь, пнул ногой снег. Справа на горе маячили стены Калинова Моста, слева свалены на снег обозы с добром. Вчера на этом поле горожане праздновали, «жгли на костре зиму». А сегодня Вольга захотел разделить среди дружинников всё нажитое: дары, подношения и добро, взятое на реке ушкуйничеством.
– Чаша, которую ты выбрал себе, Язычник, – разорвал тишину старый дружинник, боец с вислыми седыми усами, – одна эта чаша дороже целого обоза с сукном или табуна коней. Ты не можешь просить её сверх твоей доли!
Язычник пнул снег. Строй недовольно заворчал. Зверёныш крепче сжал губы. Уже третий день висит в воздухе это недовольство. Дружина уже и в глаза зовёт Вольгу не по имени, а по кличке. Язычник полагает, что виною тому Асень, который пел на празднике три дня кряду и возмутил верным бойцам умы. А чаша – пустой повод для раздора. Вот она, здесь – на снегу… Искрится крутобокая, вся из золота, а шириною – руками не обнимешь. По краям филигранная вязь, всё зверьё да травы, и драгоценные камни впаяны в золото – много, аж глазам больно.
– Так нельзя делить, – седоусого поддерживал весь строй, – это не по правде. Всё должно быть по нашему уговору: делить по заслугам, а при равных заслугах – поровну.
Старый боец гордо жевал усы. Язычник набычился: напряг мощную шею, зыркая из-под выбритого лба с долгой прядью на темени. Скрестил руки, так что вздулись каменные мышцы.
– Что-нибудь ещё не нравится? – выдохнул он.
– Ты забыл нашу вольницу. Ты судишь не по правде, а как тебе выгодно. Взял много власти, равняешь нас с горожанами, а в дележе обделяешь! – в строю согласно загудели.
– Все так думают?! – жилы вздулись на бычьей шее: так у Язычника являла себя ярость.
Строй загудел громче.
– Нет! – посмел огрызнуться на всех Зверёныш.
– Не строй из себя зверя, Зверёныш, – раздраженно бросил сосед по строю. – Я думал, ты – цельный зверь, а гляжу, ты – лишь его часть!
– Даже знаю, которая, – добавил другой.
Зверёныш задохнулся: прилюдно его назвали то ли охвостьем, то ли прихвостнем. А он, телохранитель и «ближний» самого Вольги, обязан смолчать. Седоусый боец вышел из строя с палицей в руке:
– Я разрешу этот спор. Знаю как! – и с размаху опустил на золотую чашу тяжелую палицу, которой крушат железные доспехи.
Брызнули в снег драгоценные камни, чаша зазвенела, осела, промялся золотой бок. Дружинник бил и бил, сминая золотых зверей и травы. Края давно проломились, безвидная жёлтая стружка торчала из сплющенного комка. Седоусый, усмехаясь, вытер пот и втоптал в снег цветные камешки.
– Вот так я поступал с врагами за Степью. Теперь из этого можно отлить монеты.
В наступившие затем вечер и ночь Язычник был словно не в себе. Впервые лёг спать с оружием, но не спал, а вертелся и вскакивал к окнам, как будто и здесь, в княжьем дворище, могла быть измена. Зверёнышу, денщику и телохранителю, велел спать при дверях, не раздеваясь и с мечом под рукой.
– Это из-за певца, – трясся Язычник, указывая куда-то пальцем. – Асень сводит людей с ума! Стоит ему запеть…
– Вольга! – позвал от дверей Зверёныш. – Ты просто устал. Это всё весна. Весна – очень трудное время.
– Он что-то такое спел, и все они осмелели, – не слушал Язычник, – все стали дерзить. Что он им спел, ты не помнишь?
Зверёныш захотел отвлечь Язычника:
– Про Асеня есть сказка, Вольга, говорят, он якобы живёт вечно…
– Может, он колдун? – Язычник бросился к окну, ему опять что-то померещилось. – Он так поёт – как кровь в жилах бежит.
– За окном всё тихо, Вольга, сядь и остынь. Ничто тебе не угрожает. Дружинники просто… гордятся собой, им это приятно. Это весна, Вольга, всего лишь весна.
Язычник постоял, качая длинным чубом. Потом сел на кровать, скинул с неё меч.
– А ты рассудителен, – оценил он, вглядываясь сквозь темноту в Зверёныша. – Что ты там говорил, какая сказка? Развлеки.
Зверёныш помолчал. Он жалел, что поддержал разговор про Асеня. Не всё теперь рассказывать-то хотелось…
– Да не сказка это – гиль, чушь, брехня. Брешут по деревням, будто бы тот Асень – брат самому Нилу-кудеснику, и, якобы, есть у них на двоих четыре Царь-Камня. А один из Камней – будто бы камень Власти. Да, враньё это всё… Спишь, Вольга?
– Нет, – Язычник вздохнул. – Откуда ты, Зверёныш? Где бывал? Мне порой кажется, ты говоришь гораздо меньше, чем знаешь. А сколько тебе? Восемнадцать?
Зверёныш во тьме криво улыбнулся и не ответил.
На следующий день Вольга снова вывел дружину на загородные поля. Строй стоял в молчании. Неразделённое добро за ночь припорошило снегом, и солнце больше не играло в голых серых деревьях.
Язычник был хмур, но подозрительно сдержан. Тяжеленная палица на темляке висела на левом запястье, хотя левшой Вольга не был.
– Что ж, это значит, мы перестали быть вольницей, – Язычник нарушил молчание. – Вольнице законы не писаны – что ей до записанной правды? А мы, значит, хотим теперь по закону, по заслугам. Мы больше не ватага, мы – войско.
Медленно проходя вдоль строя, Язычник остановился перед седоусым.
– Вот ты, – сказал он. – Какие твои заслуги. Напомни-ка!
– Я не последний боец, – выговорил седоусый. – Не трус и не изменник. За спинами не отсиживался.
Вольга жёстко усмехнулся и протянул руку:
– Ну-ка, – из ножен седоусого он вытянул правой рукой саблю. – Что это? Твои заслуги? – бросил он презрительно. – Вся посечена, вся в ржавчине…
– Та ржавчина – от вражьей крови! – возмутился боец. – Я был за Степью, воевал под Иремом, я… Я товарищей выручал! – седоусый задыхался от гнева, а Язычник пренебрежительно хохотал. Вдруг он выкинул саблю в снег, прямо бойцу под ноги.
– Ну-ка, подними! – приказал он. – Сейчас же!
Седоусый побледнел, стиснул зубы и наклонился за саблей, подставив Вольге затылок. Язычник вскинул левую руку, правой перехватил палицу и, взмахнув, обрушил её на шлем седоусому.
Тот охнул и повалился на бок. Шлем и кольчужная сетка на затылке вдавились в разбитый череп. Пальца раскинутых рук скрючились и застыли. Весь строй молчал, только у Зверёныша бешено колотилось сердце.
– Вот так ты поступил с моей чашей, – закончил Язычник.
Случившееся на загородных полях долго носилось по деревням на реке Смородине, обрастая всё новыми словами и подробностями. Как это красиво, когда некто доказывает правоту силою своих мышц. Разве не достойно это стать песней, преданием, летописью! Что? Не так? О чём же тогда слагать легенды?…
В тот день на Велесовых лугах Грач видел Руну со стайкой подруг и приятелей. Хотел поговорить, да толком не сумел – мешали посторонние. Руна была чересчур счастлива и теребила на руках заморское животное. Сказала, что это подарок Златика, что для неё он купил это у офеней. Лысый зверёнок походил на крысу и макаку, потявкивал и, кажется, звался собачкой.
– Дитя малое! – бросил Грач, но Руна не услышала.
Одна из подруг странно посмотрела на Грача, не ревнует ли? Грач ревновал, но Руна не поняла, а только мило улыбалась и тискала своего уродца.
Его резная самодельщина ни в какое сравнение не шла с подарками Златовида. Грач убеждал себя, что Рунка и впрямь ещё дитя, что чего-то зрелого, серьёзного у неё и быть-то не может ни со Златом, ни с Веригой. Он вообразил, как начнёт с ней объясняться, а она примется фыркать, хлопать глазами и морщиться от раздражения. Ему стало нехорошо. Стыдно и неловко.
К вечеру вконец разбитый он еле добрался до дому. Свалился на лавку, уставился в дощатый потолок. За окном кто-то завозился, в стойле всхрапнул Сиверко, стукнули в дверь.
– Кого-то леший принёс, – пробормотал Грач, поднимаясь, чтобы открыть.
– Можно к тебе? – за порогом, смущённо потирая ручищи, стоял кузнец Бравлин.
– А… Заходи, – Грач растерялся. – Только я не закончил. Там кое-что осталось, – заспешил он, полагая, что Бравлин пришёл за лужёными котелками.
– Ну, здравствуй, – Бравлин неловко прошёл в горницу, сел к столу, на угол. – Не, я не за работой. Просто так зашёл, – он поглядел вокруг себя, на стены. – Ну, как живёшь-то?
Кузнец в первый раз пришёл на хутор поболтать о жизни.
– Ничего. Есть бражка. Будешь?
– Откуда ж у тебя? – поднял нос Бравлин.
– Наварил. Власта ячменём одарила.
Грач принёс кувшин с брагой и два глиняных стакана. Сели.
– Ой, Цветославик! Тяжко мне, понимаешь? – Бравлин взвесил стакан в руке и одним разом отхлебнул половину.
Грач не то чтобы понимал, но ожидал продолжения.
– Слышь, Цветослав? Соглашусь я, всё-таки! – кузнец признался как на духу. – Что на это скажешь? – потребовал. – Что гадом я стану – так?
Грач, чтобы уйти от ответа, налил из кувшина ещё.
– А правильно скажешь – не по совести это! – клял самого себя Бравлин, а Грач помалкивал. – Но ведь, как доходно это, как выгодно… Златовид этот… с Вольхом ихним… А вот не я ихнюю войну придумал, слышишь ты, не я и решаю, кому мечи ковать. Вот, понял? Не, я к Роду Людскому ничего не имею… – заверил он и опять потребовал: – Ну! Чего скажешь-то?
Грач хлебнул браги, переждал, пока перестанет щипать горло, и выдавил:
– И я ничего не имею…
– Я и говорю! – перебил Бравлин, поудобнее уселся и сам налил себе стакан. – Не-е, и не говори, раньше мы лучше жили! При Братстве все были равны. А Братство старалось, чтобы все дружили и чтобы всем жилось счастливо, – хмелея, кузнец делался всё болтливее.
А Грач выслушал, глотнул из стакана, да взял и спросил:
– Куда же твоё Братство подевалось-то?
Бравлин осушил стакан и буркнул:
– Померло! И все мы помрём, – заявил так, будто собрался помереть завтра же. – Чего это Злат так на них взъярился?
Досадуя, Бравлин толкнул стакан по столу, расплескал и, расстроившись, стал вытирать рукавом пролитое.
– Наплюй, – посоветовал Грач и переставил стакан на сухое.
– Чего сразу наплюй-то?… – хмелея, не понимал Бравлин. – Род Людской-то это ведь кто? Они же как мы – лисунки, навии, берегини, – он чего-то показывал на пальцах. – Возьмет, скажем, парень за себя навию, так та родит ему либо сынка-человека, либо девку-навию. Заведено так!
Грач не спорил, кузнецу хотелось выговориться. Бравлин пил залпом, но на середине стакана вспомнил что-то важное и замычал:
– М-м-м! А из-за Асеня? Из-за Асеня – что? Чуть Сланьку не зарезал. Ну, певец, ну, гусляр – чем не угодил-то ему? Хотя скажем… Асень-то – первый друг кудесника Нила. Слыхал, что про него говорят? – Бравлин, осторожничая, понизил голос.
– Я слышал, что он с ума сошел.
Кузнец заговорщицки передвинулся на край скамьи, потом пересел к Грачу и зашептал в самое ухо, дыша хмелем:
– Не-е, говорят, хоть Нил и старый, а не помрет, пока не передаст силу кому-то другому. А силы за ним большие. В народе сказывают: Камни Царские… Ох, ведь как умён он, как умён!
– Ладно, сказки-то пересказывать! – Грач отодвинулся от хмельного кузнеца.
– Сказки? – тот решил было обидеться, но передумал: – А и то верно! Но с Нилом-то ещё и Ладис знался. Помнишь Ладиса? Помнишь, как он всё у нас взбаламутил?
– Помню, – вздрогнул Грач и напрягся.
– Загубили Ладиса! Жалко, хороший был парень, умный, войною не порченый. А говорил-то как, говорил: «Слободы за лесом выстроим. Без посадских повинностей заживём…» Что? Зажили? А всё потому, что Братство скинули. Эй, ты чего? – он замер. – Ну-ка, не кисни, Цветослав! – велел бодро. – Не ты же его укокошил, Ладиса-то…
– Да как же не я? – заспорил Грач. Он тоже опьянел, в голове начинало кружиться.
– А вот не ты. И раньше, говорю тебе, лучше жили! – кузнец сурово подытожил.
– Когда раньше-то? – протянул Грач.
– Когда нас не было. В старину! – решил Бравлин. – Песню помнишь про Купаву и Радима? Вон, когда дружно жили:
Я видывал тот дом в глаза —
Та-та, та-та, та-та…
Русалки заглянут порой,
Иль старый лесовик.
– Всё, больше не помню, – сбился кузнец. – А ты?
– А я, – поморщился Грач, – больше другие слова запомнил:
Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
– Вот, зара-аза! – протянул Бравлин. – Выходит, и до нас не сладко жилось, – Бравлин, опершись на стол, поднялся. – Пойду я! Спасибо, Цветослав, за угощение.
Он отошёл к двери, помедлил.
– Не ты один, – сказал он вдруг. – Все мы здесь – изгои. В снегах, в глуши…
Кузнец тяжко вздохнул и вышел.
1
А я в это село ещё прошлой ночью пришёл! (офенское)
2
Вот я и вижу, что село полно ратников (офенск.)