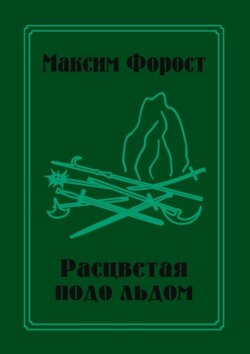Читать книгу Расцветая подо льдом - Максим Форост, Максим Анатольевич Форост - Страница 7
Часть первая
Огнич
Глава V
ОглавлениеБелым-бело на Плоскогорье! Бело от яблоневого и вишневого цвета, бело от искрящего по земле снега. Асень, славный певец, поднялся на Плоскогорье! Кто поёт слаще? Кто играет нежней? Чьи песни чудесней? Мальчишки разнесли по улицам весть, что Асень чуть свет поднялся на Плоскогорье.
Асень – он будто из легенд, а не из жизни. Он будто герой своей же песни. Явился в снега посреди яблоневого цвета. Разбил шалаш на выгонах за Навьим лесом – там, где мальчишки пасут жеребят. Они-то и кинулись гурьбой вокруг Навьего леса.
– Да угомонитесь вы, бешеные! Видали вы его, – засуетились матери, вытаскивая дочерям из сундуков всё самое лучшее.
Видать-то видали, да давно, в детстве, а это уже не считается, потому как не помнят они, а значит это неправда. Повсюду шум, колготня, сумятица. Старики под сто лет повылезали из домов и скрипучими голосами вещали, как сами парнями сбегали слушать Асеня. Им в уши кричали, что, они сон с явью путают, что не мог певец столько прожить, и то, якобы, был другой Асень. А старики злились и грозили палками. Молодняк вечно полагает, будто мир стоит столько, сколько они его помнят, и ни годом больше.
Асень смеялся. Вот он – вышел из шалаша, молодой и древний, страстный и тихий, буйный и мирный. Молва по миру ходит, будто солнце подарило ему глаза, море – уши, а деревья – язык. Лгут иль не лгут старики? А ведь и впрямь он высок и крепок, и он же чуть сгорблен и сед. Белая борода острижена и курчавой волной покрывает щёки, а из-под усов смеются губы. Глаза голубые, юные, лучатся весельем и счастьем. Певец протягивает руки плоскогорцам, приветствуя их. Гусли и рожок у него за спиной вздрагивают и норовят сами скатиться по плечам певцу в руки.
А в Плоскогорье цвели вишни и яблони. Даже здесь, за лесом, мерещился их запах…
– Ах, Асень! Милый Асень! Здравствуй! Оставайся же теперь с нами. Тут и живи, – упрашивают его ласковые девки, добрые жёнки да кое-кто из стариков.
– А я с вами, – смеётся певец, – сегодня я с вами! – и голос у него чист и звонок, мягок и добр. Как будто намешаны в нём шум деревьев, пенье птиц и журчанье ручья.
Из малышни – тот, кто посмелей – коснулся его, потрогал. Удивительно, певец живой и тёплый – всамделишный! Кто-то дёрнул Асеня за руку, увлекая: «Ну, пойдём же, пойдём!»
– Да куда же я от вас денусь! – отзывается певец ласково, и опять точно шумит в голосе листва, бегут ручьи и щебечут птицы.
Окруженный плоскогорцами Асень зашагал туда, куда увлекали. А вышло так, что набежало больше посадских, чем слобожан, певца обступили, задние толкали, и все невольно повлекли его вперёд – на дорогу в слободу, к Залесью.
Старый певец шёл споро да всё время поглядывал поверх голов, будто примечал несуразицу – и белый снег, и буйную зелень. С дерева, с птичьего гнезда посыпалась на сугроб труха, Асень лишь хитрó усмехнулся и покачал головой.
Навстречу выросла толпа из Залесья, встала, заколыхалась людьми, как трава на ветру. Посадские расступились и отпустили Асеня. Тот вышел один, на общее обозрение. Так стоял и посмеивался, пока из-за спин слобожан выбирался Златовид со стрелками. А слобожане, озираясь на Злата, гудели и возмущенно роптали, их ропот волнами отражался от толпы посадских.
Стрелки были вооружены. Злат встречал певца с охраной. Охраняли его сразу пятеро: двое с боков, трое встали полумесяцем сзади. У всех под руками сабли, а желтоволосый вожак – в броне, в кольчуге, с поножами и налокотниками, без шлема. Руки обхватили крыж обнаженного дэвского меча – того самого, без желобка для стока крови.
Так и замерли у всех на глазах. Пахло цветами вишен и яблонь. Запах пьянил и кружил головы. Плоскогорцы роптали из-за испорченного праздника. Злат ёрзал, елозя острием палаша по снегу.
– Да брось ты, Златка, – кто-то подал голос и заткнулся.
Только Асень склонился будто в поклоне и, посмеиваясь, почерпнул с земли снегу.
– А птички гнёздышки свили, – сказал невпопад.
Желтоволосый вожак оскалился и фыркнул, отчего стал поход на зверька, не слишком крупного, но загнанного и злого. Асень мял в руках снег, пока весь ком не растаял и не растёкся водой по локтям.
– Не к добру это, – забормотали старики, – когда снег летом…
Злата аж передёрнуло, он шагнул с левой ноги, поднял меч справа, держа его в обеих руках над собою. Но тут же заорали плоскогорцы, и Злат помедлил опускать палаш. А певец, умыв заснеженными руками бороду, выступил и прошёл между стрелков, легко задев кого-то.
Посадские и слобожане на радостях потекли следом. Злат бессильно развернулся на каблуках, взрыхляя снег, и стеганул палашом по снегу – только белые брызги полетели – да судорожно передёрнул губами. Все это видели. Только не поняли, давится ли он злым плачем или скверным образом ругается.
Одни пацаны ничего не поняли или вовсе не заметили. Всё дёргали да дёргали певца-гусляра за кафтан:
– Когда запоёшь-то, а? Будешь петь – или что?
– Спою-спою, – клялся Асень. – Что бы ни случилось, спою! – и то ли стонущий ураган, то ли смеющийся ветер раздались в его голосе.
В тот день пахло свежескошенной травой. Влажная, чуть-чуть кисловатая свежесть струилась в воздухе, и Зверёнышу отчего-то мерещилось, что так – травой и мокрым железом – пахнет свобода. Казалось, эта свобода вот-вот пропадёт, отнимется и надо успеть надышаться. Он вытянул шею, оглядел всё окрест и поискал, нет ли опасности – Язычник отпустил его с десятком бойцов в дозорный отряд, чтобы предупредил в случае беды, а сам с полусотней дружинников следовал в полёте стрелы сзади.
Зверёныш непрестанно оглядывался: Вольга ехал в гуще охраны и почему-то без шлема, смурый и мрачный, а в самом хвосте, тянулся тот гонец, что притащил дурную новость. Зверёныша передёрнуло: ой, не ко времени собрался Язычник в полюдье собирать мзду. Гонец на взмыленной лошади наехал на них сегодня утром, долго пил воду, мыча и тыча рукой по ходу пути, вниз по Смородине, потом выговорил свою весть. Оказывается, уже три дня, как Язычниковы ушкуи, промышлявшие в устье реки, захвачены буянскими опричными боевыми кораблями. Ушкуи сожжены, все молодцы перерублены. Вольга стал мрачнее тучи, но не повернул назад, а поехал дальше.
Зверёныш не выдержал. Бросил дозорных, развернул коня и припустил к Язычнику. Язычник хмуро поглядел, но разрешил ехать рядом. Чагравый – сумрачно-пепельный с карим переливом – жеребец Язычника ступал тяжело и весомо.
– Послушай, Вольга… – замаялся Зверёныш.
– Ну-ну, – Язычник скосил глаза. Последние месяцы только один Зверёныш мог запросто говорить с ним. Старые дружинники уже не близки ему.
– Повернём домой, – решился Зверёныш. – Все этого хотят. Ну его к лешему, твоё полюдье. Не искушай Судьбу-Долюшку, мстительная она.
Язычник покивал и пробасил хмуро и недовольно:
– Обойду три погоста, куда добытое свозят. Зайду в мою сечевую ставку, что у речных порогов. Там прошлогоднее добро свезено. Людишек соберу, коли разбежались. Тогда домой.
– Вольга, – напомнил Зверёныш. – Гонец-то сказал, что опричники как знали, где твои ушкуи прячутся.
– Это калиновские старосты меня продали! – разгорелся Язычник. – Жив буду, ворочусь – никому не прощу! Пятки железом прижигать буду. – Чагравый жеребец всхрапнул, вздыбился, замотал гривой.
– Но ведь знают, знают буянцы, как ты в полюдье пошел и какой дорогой едешь! Вернемся, а? Пока живы все.
Язычник удержал жеребца, смирил его, глянул опять искоса, вздохнул:
– Слышь, Зверёнок, – грустно-грустно позвал Вольга. – А без полюдья чем я людей одаривать буду?
Бойцы Вольги-лучника двигались неторопливо, ленясь, точно служили вожаку не по любви, как прежде, а по обязанности.
– Эту твою ставку буянцы уже нашли и разорили, – предрёк Зверёныш, – и погосты расхитили, какие нашли…
– Или твой гонец буянских опричников на пятках притащил?! – взъярился Язычник.
– Нет, – Зверёныш на миг перепугался от такой выдумки. – Нет, он клялся, что было тихо. Клялся, что во весь дух мчал. Ночью мчал – не спал, и не было за ним погони.
– А Путьша-то где? – вдруг подъехал Ярец. – Где Путьша? – прошевелил толстыми губами.
Язычник рванул повод, вздыбил чагравого, остановил отряд. Кони под седоками заплясали, кружась на месте. Кто-то взялся за сабли: слева открылось поле, справа – незнакомый лес. Путьшин дозорный отряд вопреки правилам ушёл вперёд за косогор и не вернулся.
– Он не должен так делать, – забормотал Зверёныш, тревожась, – он не должен исчезать из виду.
– Всё! – прохрипел какой-то дружинник. – Попали.
Из леса двумя рукавами, без свиста и гиканья, со стуком железных доспехов, вырвались, огибая их сзади и спереди, опричные буянские сотни. Все кони по-строевому одномастные, бурые, все воины в бронзовых панцирях, в шлемах с высокими гребнями.
– Засада! – бессмысленно завопил кто-то.
Буянцы окружили, охватили отряд. Люди Язычника сбились в кучу вокруг вожака. Везде сверкали буянские панцири, вились алые всадничьи плащи. Язычник страшно медленно тащил меч из ножен. Его дружинники как во сне падали, взмахивая руками, будто пробуя взлететь. Кони, неготовые к бою, ржали и не слушались. Их зачем-то стегали по ушам, а кто-то кричал:
– Вольгу заслоняй! Вольгу в середину!
Нелепая мысль пронеслась у Зверёныша: «Почему он это позволяет? Почему не кричит: „Отродясь за спинами не прятался!“?»
Зверёныш не умел драться. Забивать батожьем лежачего – это одно, встретить бой с оружием – совсем иное. Его нечаянно, без злого умысла, вытеснили на край, прочь от Язычника и ближе к мечам буянцев. Зверёныш вытянул саблю и, повинуясь скорее рассудку, чем воинской сноровке, взмахнул ею в воздухе, когда увидел перед собой буянца – горбоносого, буробородого и с глазами карими и холодными как бронза. Зверёныш не знал, как нападают, когда враг безжалостен, на коне, с мечом и щитом. Кто-то ударил его – не этот буянец, другой, сзади, не в голову, а по плечу.
Боль пронзила кости, он выпустил саблю и потерял равновесие. Падая с лошади, он вниз головой разглядел, как мало людей вокруг Язычника и как его, оглушив, тащат с коня буянцы. Мир несколько раз перевернулся, меняя местами небо и землю, и взорвался.
Без сознания он пробыл недолго. Боль скоро вернулась. Шум и скверная брань ворвались в уши, кругом топотали и ржали разбежавшиеся кони, кто-то говорил, словно нудно читал по списку. Зверёныш хотел перевернуться – он валялся на земле со скрученными за спиной руками, а перед лицом торчал чей-то грязный сапог. Он поднял голову, успел заметить коней и брошенных поперёк сёдел связанных Ярца и Путьшу. Путьша, кажется, был обрит – голая голова была мокра и вся в свежих ссадинах.
Буянец грязным сапогом перевернул Зверёныша – мир опять опрокинулся и закружился. Буянец оказался не воином, а опричным чинушей в хитоне, в плаще с капюшоном и с чернильницей за поясом.
– «Рост имеет высокий, глаз наглый, волос золотой, скалится, гордясь, руку к мечу тянет, когда бы меча при нём и не было», – читал он из хрустящего скрученного трубкой списка. – Ну что, верно этот?
– Этот, этот, – подтвердили. Сотник в золочёных доспехах прошёл в поле зрения. Чинуша что-то черкнул в списке и кивнул в сторону:
– Готовьте его, – и отошёл, перекручивая список и сличая других.
Кто-то живенько подбежал к Зверёнышу, звякнул вёдрами, и ковш ледяной воды выплеснулся ему на лицо, на лоб и темя. Зверёныш охнул и закрутил головой, моля:
– Не надо, не надо…
Перед лицом мелькали руки и сапоги, его жестко схватили за волосы, вздёрнули голову и заскребли тупой бритвой, крякая и откидывая вон клоки жёлтых волос.
– Не верти башкою-то, не верти, – посоветовали. – Ухо отхвачу – тебе же одна морока будет.
Дохнуло дымом. Рядом раздували походный кузнечный горн. Ноги и левый бок лизнуло волной жара. Выкрутив шею и выпучив глаза, Зверёныш увидел подле себя кузнецов и связанного, но живого Язычника. Вольга, зачем-то вывалив язык, следил, как готовятся заковать его в цепи. Кто-то жилистой рукой, глумясь, ухватил его за клок волос на темени и за усы:
– Повязали гада! Так брить его, что ли?
– Да брей, чего уж тут, – отозвались безразлично. С полведра воды выплеснулось в лицо Язычнику.
– Погоди, постой! – одумался прежний безразличный. – Голова-то с чубом приметная, а ему, поди, плаха светит. Голову без чуба на колу не узнают. Не брей, не надо.
Зазвенел молот – гулко, с переливом. Язычник засипел сквозь зубы, слушая, как заковывают ноги. За ноги подтащили к горну и Зверёныша. Ножом срезали путы, стянули сапоги, задрали штанины. Холодное железо прильнуло к коже, кузнец клещами согнул его в хомут.
– Не жмёт, эй? – окликнули. Зверёныш не знал, что это было к нему. – Душой тебя спрашиваю: цепи-то надолго тебе… Эх, рогожки потом подоткни, кандальник. Натрёт… – бормотал сердечный тюремщик.
Зверёныш сжал зубы. Звонко ударил молот, расплющивая в проушине хомута заклёпку. Ударная волна пробежала по костям. Зверёныш завыл, но сам же и подавил вой. Стук и звяк повторились. Стальной стук бил в голову, словно огонь и лёд лили на бритое темя попеременно. Сталь звенела, и молот бил без конца. Свежей травой уже не пахло. Пахло дымом от горна. Ещё была сталь, только сталь, звон цепей да ещё стук без конца.
Стук повторился. Настойчивый, упрямый. Грач простонал во сне и повернулся. Хватило сил проснуться и сесть. Голову давило обручем, во рту горько и сухо. Вчера просидели с Бравлином, сегодня сказывались последствия. Грач покачал головой, но тут упорный стук повторился. Стучали в окно и возле окна.
«Кто-то прошёл на двор, пока я спал», – подумалось.
– Цветослав! Ну, ты дома – нет? Я знаю, ты здесь, – раздалось требовательно и капризно.
«Руна!» – вскинулся Грач. Из-за окна лился зрелый полуденный свет. Грач вскочил как ужаленный, запахивая лежанку и натягивая штаны.
– Сейчас всё брошу и уйду! – пообещала Руна твёрдо и обижено.
Он бросился к двери – небритый, взлохмаченный, но налетел боком на стол с кувшином и парой стаканов, спохватился. Заметался взглядом. Войдет же, увидит, что скажет! Схватил кувшин и, не найдя, куда сунуть, сунул под лавку. Выбежал в сени, распахнул дверь.
– Руна, я тут! – не переводя дух, выкрикнул.
Руна, не торопясь, появилась. Вышла из-за стены, от окна – спокойная, нарядная, в голубом ситцевом сарафане и цветной накидке.
– Привет, – смутился Грач. Руна оказалась такой красивой. Даже глаза подведены чем-то фиалковым.
– А я стучу-стучу, думала нет никого. Такое зло взяло, веришь ли! Нарочно же пришла…
Край её сарафана затрепетал и заструился на ветру, очерчивая ноги. «Нет, он не голубого цвета, – увидел Грач, – а бирюзового. Накидка синяя, в цветах…»
Он очнулся. Нарочно пришла? Сама – в кои-то веки.
– Да я тут. Где мне быть? – заторопился, не зная, что сказать.
– Спал что ли? – обрадовалась Руна и взялась подтрунивать: – Спал! Эх, соня… – ласково подтрунивала, не злобно. Грач немедленно простил ей.
Смеясь, Руна прошла в горницу. Грач уловил запах принесённых ароматов, похожий на запах цветущих вишен и яблонь. Запах кружил ему голову.
«А ей идет, когда веки подведены фиалковым. Вот, и глаза уже не серые, а впрозелень. Значит, больше не злится».
Руна наморщила носик, принюхалась. Грач испугано втянул воздух. В горнице пахло брагой.
– Вижу-вижу, – прищурилась Руна. – До обеда заспался, лыка не вяжешь, – поддразнивала она. – С Бравлином новую кузницу отмечали, признавайся?
– С ним, – повинился Грач. – Только он просто зашёл, о жизни потолковать. Грустно ему…
– Да-а? – Руна посокрушалась. – Старую кузню жалко? Слушай! – она уже перебила саму себя. – К нам Асень пришел!
– Асень? – обрадовался Грач потому, что Руне от этого радостно. – Наверное, это здорово…
– С утра все встречают, с ума сходят, на головах стоят. Праздник же! Он же вечером петь будет. А знаешь где? У нас на Велесовом лугу. Представляешь себе? А ты знаешь чего… – Руна теребила красивую свою накидку, всю в цветах. – Ты приходи вечером на луг… Все соберутся, мама сказала, чтобы я тебя позвала.
– Правда? – ухватился Грач. – А сама, что ли, собиралась?
– Сама… – смутилась Руна. – Ну, собиралась… Как же я забуду!
– Если и ты там будешь, то я приду! – вскинулся Грач.
Руна даже опешила от его горячности. Опять запахло вишнями и яблонями. Опять принял Грач желаемое за сбывшееся, мечту – за уже осуществлённое.
– Приду, – поклялся он, – что бы ни случилось.
Руна только усмехнулась, подержала его за руку и ушла. Грач, проводив, вернулся от калитки окрылённый, с кружащейся головой, с мечтами и туманом в глазах и мыслях.
Чудесный день! Сегодня непременно осуществится самое несбыточное! Руночка пришла, позвала, пригласила его разделить её радость. А радость – это жизнь. Да, да, она пришла позвать разделить с ней жизнь! Ведь если Руна зовёт – то не судьба ли это? Не знак ли?
«Несомненно, это знамение, – говорил он себе. – Что-то сегодня произойдёт. Всё, о чём давно мечталось, теперь сбудется. Свершилось! Так я скажу сегодня вечером».
Что-то светлое, тёплое, чуть обжигающее приливало к груди с каждым вздохом. Оно заставляло трепетать, волноваться, вздрагивать. Он склонил на бок голову, прислушался к странным своим мыслям. Словно огонёк горел внутри, колыхая крылышками. Он приник к огоньку и услышал:
Дерзай, мой друг, дерзай! Тебе однажды мнилось,
Что волею небес она тебе дана.
Дерзай, мой друг, дерзай! И что бы ни случилось,
В твоей судьбе навек останется она.
Дерзай, мой друг, дерзай! Одну на целом свете
Ты потерять не сможешь нигде и никогда.
Дерзай, мой друг, дерзай! Ты пред собой в ответе:
Любовь – ничто, лишённая отваги и труда.
– Что за нелепица, – он оглянулся по сторонам. – Какие отвага и труд?
Горячие крылышки тут же сложились, и огонёк замолчал.
– А не плохо вышло, Руне бы так написать, – он забегал по дому, собирая бумагу с чернилами и рассчитывая спрятать письмо в шкатулке с подарком под подкладкой. А когда сел, то оказалось, что в спешке загасил огонёк, и слова куда-то исчезли.
«Руна, – кое-как вывел он на бумаге. – Я давно хотел сказать тебе. Это важно для нас обоих, для тебя и для меня. Я люблю тебя…»
Ну вот, главное, наконец, сказано. Записку отдать легче, чем выговорить то же самое, глядя в глаза. А столько трепетало в душе совсем недавно. Написать ли? Написать ли, что она самая лучшая, милая и прекрасная девушка из всех, кого он знал в своей жизни? Да нет. Разве этим скажешь, что жизнь без неё бессмысленна, что счастье только в ней и видится? Да где же тот огонёк, что теплился в душе несколько мгновений назад…
Свароженька, Óгнюшко, любимый сын Солнышка, ты светишь-сияешь, звёздочкой мерцаешь. В очаге и на свечке, и в моём сердечке, – так говорила мама, когда зажигала огонь.
«Ты – смысл моей жизни, – с трудом приписал он. – Я люблю тебя, – повторился, – и хочу, чтобы ты это знала», – закончил он и… оставил письмо без подписи.
Он перечитал письмо, сложил ввосьмеро и спрятал в шкатулку под подкладку – так, чтобы торчал лишь уголок, краешек. Это для того, – утешил он свою трусость, – чтобы письмо не бросалось в глаза, но было бы найдёно потом, не сразу. Не при всех.
Грач закрыл подарок. Кончено! Сегодня вечером это свершится.
Склонил на бок голову – и тут же ушедший было огонёк заговорил с новой силой:
Пройдёт немало лет – глубоким стариком
Ты будешь вспоминать её глаза; улыбку;
Её весёлый смех, журчащий ручейком;
А с ним – нелепого признания ошибку.
– Отчего же ошибку? – возмутился Грач.
Пусть тяжек был удар. Пусть кровоточит рана.
Любовь – как острый нож в целителя руке.
…Любовь – как лунный свет: выходит из тумана;
Блеснёт; и пропадёт чешуйкой на реке.
– Вот ещё! – оборвал себя Грач и заколотил рукой по колену. – Сглазишь, сглазишь! Прекрати…
Вечером, когда тени стали расти быстрее, Грач побежал в Залесье. Драгоценную свою шкатулку он бережно прижал к груди, держа её как оберег, как талисман от чужих взглядов. Руну он хотел встретить заранее, еще до Велесова луга, где соберётся много народу, но дом Власты оказался уже заперт, и Грач заторопился.
Кажется, все плоскогорцы сошлись сюда. Кто-то расселся на захваченной из дому кошме, кто-то – на брёвнышках, а иные – прямо на снег под сугробами.
– Навий сын! – нарочно прошипел один старик с палкой.
«Не навий, а вилин», – Грач ухмыльнулся, стараясь не подавать виду. Он вытянул шею, высматривая Руну. Мелькнул, кажется, бирюзовый сарафан, Грач шагнул туда, но на пути мешались пять или шесть пацанят, раскрывших рты на чернявого изгоя. Можно было прогнать их («А ну, пацаны, дорогу!»), но рядом, подбоченясь, стояла их мамаша, тётка руки-в-боки. Тёткины пухлые губы ворочались и бормотали что-то совсем недовольное: «Глядите-ка – чёрный весь, волосами-то. Как упырь! Вылитый грач…»
Он предпочел обойти их семейку. Тоненькая фигурка в голубом, показавшаяся знакомой, пропала, Грач закрутил головой и увидел Руну в другой стороне.
– Позвольте, – он отстранил деда с палкой и уверенно пошёл к ней. – Привет, Руна! – окликнул шагов за десять. Та обернулась.
– Ой, привет! – она была вся такая праздничная, смеялась, её розовые губы играли, а тёмно-русые волосы слегка растрепались.
Снова запахло цветами вишен и яблонь. Грач вдохнул этот запах и протянул Руне шкатулку.
– Это с праздником, – выговорил.
– Спасибо! – она обрадовалась и изумилась, открывая шкатулку. – Ой, как красиво.
– Примерь, пожалуйста! – потребовал он нетерпеливо. – Хочу посмотреть, как это на тебе.
Она извлекла вещички и примерила, красуясь перед Грачом. Серёжки пришлись в пору, они качнулись возле шеи среди каштановых прядей. Браслетик лёг на тонкое запястье и сомкнулся, другая рука ласково погладила его… А вот колечко годилось только на мизинец и было чересчур узким. Грач смутился, мизинец – не безымянный… Впрочем, Руна, кажется, не обратила на то внимания.
Он выбрал им место на брёвнышках, провёл туда Руну, они сели. Он слева, она справа. Грач протянул за её спиной руку и обнял. Руна не вздрогнула, не воспротивилась. Как будто так надо. Она только мельком взглянула на него – с полувопросом или с полуулыбкой. Горячей рукой он почувствовал под тонким лазоревым ситцем её горячую спину, ощутил каждый позвонок, каждое ребро. Гордость и озноб подкатили к горлу. Они были у всех на виду, и Грачу, кажется, взбрело в голову, что с его изгойством покончено.
Шум и говор пробежал по рядам. На оставленную посреди луга площадку выходил Асень. Тесёмка на лбу перехватывала певцу волосы. Голубые глаза светились солнечным огнём. Не испытывая чужого терпения, он поднял гусли – и не звуки, а словно бы свет полился от них.
Вещие пальцы поплыли по струнам, и тотчас не стало ни шелеста листвы, ни щебета птиц. Всё затаилось. Всё в мире отдало себя струнам и вещим рукам. Пальцы певца словно излучали из себя чудную, сказочную музыку. Может, и не было теперь в мире ничего кроме звуков? Лишь солнце засветило ярче, сообщая мощь свою этим рукам на струнах, а те, чаруя мир, вливали в сердца и души чистоту небесной и вселенской гармонии. И не осталось здесь ни тебя прежнего, ни соседа твоего, ни всех собравшихся, а всё стало – иное, напитанное чем-то доселе неизведанным.
Асень пел! Те, кто не слышал, говорили, что устами его пело Солнце. Да полно! Асень пел о самом простом – о Роде Людском, о любви и добре, о счастье, нелживости и искренности чувств. А те, кто слушали, внимали так, как внимает солнцу подсолнечник, и пропускали через сердца каждое слово. Асень смотрел в вышину, словно искал среди розовых облаков слова для своих песен. И каждый знал, что этот день не забудется и останется в душе навсегда, какие бы заботы не навалились. Пусть память и потускнеет, как немытое стекло, но всё же не изгладится.
Асень умолк, прижав к струнам ладони. Он выжидал, глядя не вдаль, а на кого-то за спинами плоскогорцев. Стрелки подошли недавно. Они стояли позади коневодов ровной боевой шеренгой. Асень поднял к губам рожок и заиграл. Многие вздохнули, другие, не стыдясь, отёрли слезу. Кое-кто оглянулся, стрелков заметили. Златовид был не при мече и не в кольчуге, но в чёрной епанче, с луком за спиной и с плетью-арапником у пояса.
Кто-то заёрзал, другой заинтересовался. А Златовид сжал руки на поясе, где должен висеть меч, и устремился в гущу сидевших. Стрелки порушили боевой порядок и потянулись за вожаком. Асень продолжал играть, и Златовид вдруг замер посреди поляны, промеж сидевших на кошмах и брёвнышках. Асень играл. Отчего-то запахнуло дымом и прелью. Может, так пахли дорожные плащи стрелков…
– Играет, старается, – выговорил Злат. – Долюшка-Судьбинушка, как же он играет!
– Это от нелюдской крови, – Скурат пожевал бороду. – Навья, вилина, алконостья. Нечистая кровь в нём поёт.
Верига вскинулся что-то добавить – едкое, дерзкое, но глянул на Златовида и замолк.
– Заткнитесь вы все, – с болью выдавил Злат. – Я-то в третий раз его слышу. Он – чуден, – Злат с силой зажмурил глаза, встрепенулся и справился с собой. Засвистел, захлопал в ладоши – так на Смородине пастухи отару овец погоняют.
А древний Асень вдруг сделал что-то, чего никто не понял. Поднял зачем-то ком снега, слепил снежок и подбросил высоко-высоко. А пока тот летел и не упал ещё, принял на руки гусли и заиграл:
Весной подснежник расцветёт —
Как сердце от любви.
Расступятся и снег, и лёд —
Зови весну, зови!
Зови весну, зови!
С весною гости к нам спешат:
Тревога, жар, тоска,
Сомненье, стыд и робкий взгляд —
О как любовь сладка!
О как любовь сладка!
Радим с Купавой целый мир
Собрались известить,
Раз в их крови любовь горит —
Зачем её таить?
Зачем её таить?
– Жарко, – еле слышно сказала Руна. Чуть пошевельнулась и мягко, лишь кончиками сняла руку Грача со своей талии, отстранилась. – Жарко, – объяснила она не словами, а одним дыханием. У Грача заныло сердце. Он подумал, что знакомая песня не сулила ему ничего доброго.
Любовь во взглядах и в словах.
Уж назван свадьбы час.
Никто в те дни еще не знал —
Пир омрачит слеза.
Пир омрачит слеза.
На солнце панцири искрят,
И ждут богатыри,
Когда к сраженью протрубят,
Чтоб биться до зари.
Чтоб биться до зари.
Той распри позабыт исток.
Кто – ближний? Кто – чужой?
Остался в поле друг, браток —
Ну как найти покой?
Ну как найти покой?
– Покой? – чей-то голос неузнаваемо изменился.
Грач оглянулся и увидел Златовида.
– Да есть ли он теперь – покой-то? – Златовид глядел, но не на Асеня, а как будто внутрь себя. Одни только пальцы на поясе беспокойно шевелились. Точно защиты искали.
«Радим, она – чужая кровь».
«Купава, он – не наш…»
Ах, песнь стара и стих не нов,
Так было и до нас!
Так было и до нас!
Прикажешь разве не любить?
Ведь сердце не рекрýт.
Им лучше с глаз людских уйти.
Да! Лучше в лес уйдут.
Да! Лучше в лес уйдут.
Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
Дрожи, изгой, дрожи!
– Сидел бы себе дома! – раздалось над ухом. То давешний старик с палкой подобрался сюда и грозил Грачу. – Изгой, изгой… – Грач сжался, закусил губу и попробовал снова обнять Руну. Та лёгкой тенью скользнув, отстранилась. «Ничего. Вечером она найдёт письмо, – подумалось, – и всё решится. Скорей бы…»
Купава плакала тайком,
Радим лишь хмурил бровь.
Кололи снег, рубили дом —
Согреет ли любовь?
Согреет ли любовь?
Но чудный дом в лесу стоит —
Там нет огня в печи.
А дом согрет теплом любви.
Светлы её лучи!
Светлы её лучи!
Я видывал тот дом в глаза —
Он радовал мой взор.
Олени, зайцы, волк, лиса
Заходят к ним на двор.
Заходят к ним на двор.
Русалки заглянýт порой,
Иль старый лесовик,
Иль путник забредёт такой,
Что ходит напрямик.
Что ходит напрямик.
– А я предупреждал, – тихо вразумлял Злата Скурат. – Зря ты ему петь позволил. Он и русалок, и лесовика помянул, лешего, то есть. Чистую кровь нам беречь надо, а он про лесной дом поёт. Позволительно ли? Путник, что напрямик ходит – кто ещё такой? Так это он сам или его гонец. А к кому гонец, если не к старцу Нилу?
Желтоволосый вожак молчал. Только кулаки на поясе сжимались и разжимались.
И чудо было среди льда —
Велик любви той жар! —
Бежит гремучая вода,
Где прежде снег лежал.
Где прежде снег лежал.
Весна пришла в морозный край!
Растаял вечный снег.
Там звонко-громкий птичий грай
Ошеломляет всех,
Ошеломляет всех,
А говорящие ручьи
Мне спели эту весть:
Мои Купава и Радим
Когда-то жили здесь.
Когда-то жили здесь.
Когда песня оборвалась, и звон гуслей затих, а шелест листвы снова стал различим, тогда многие вслед за Асенем ещё шевелили губами – договаривали последние слова.
Странно расходились люди: вроде и переглядывались, но ни о чем не спрашивали. Вечером расходились, уже затемно. Асень кинул за спину рожок, убрал гусли, улыбнулся в темноту и исчез. Куда – не видели, темно было. Заметили только, как уходили стрелки и как Златовид ёрзал, хоть и держался гордо, якобы ничего не случилось.
На входе в Залесье Грач догнал Руну.
– Это опять я! – он подскочил сзади.
– Чего людей-то пугаешь? Совсем уже, – она вздрогнула и в раздражении попеняла. – И так темно кругом.
– Ну, как тебе мой подарок? – Грач забыл стыд. – Понравился, довольна? – настаивал он.
– Красивый, – пришлось девчонке признать. – Я очень рада…
Грач тут же сник: «Эх, не нашла ещё! Жаль. Ну, значит, до завтра. Тем лучше», – пронеслись спутанные мысли. Он вернулся на хутор и заставил себя лечь. Спать не хотелось. Хотелось забыться – провалиться в сонный колодец. Он не сумел. Катался по лежанке, внушая самому себе, что завтрашний день окажется счастливейшим. Ну, да! Ведь не может же он оказаться таким неудачником, чтобы проиграть всё, что имеет: мечту, счастье, надежду. Нет, этого не может быть. На завтра он предвкушал успех. Впервые не готовился, что скажет. Верил, что слова польются сами собой.
Когда утром очнулся, не мог понять, спал ли в ту ночь или нет. Солнце поднялось высоко. Он прикинул, что мог бы уже собираться, стал снаряжать Сиверко. А снарядив, бессмысленно водил его по двору, всё откладывая и откладывая свой выезд, томясь ожиданием, когда же солнце заберётся повыше леса.
– Ну, пошёл, Сиверко! – дождался, вконец истомившись.
В лесу на просеке в глухой тени до костей пробирал холод, волнами поднимавшийся с земли от снега. Грач зябко поёжился. Куда как теплее смотреть вверх – на солнечные макушки и суетящихся в ветвях птиц. Грач загадал: пусть первая птаха перелетит ему дорогу справа налево. Тогда Руна найдёт его письмо, прочитает и всё свершится…
– Ай! Ну, зачем, кто просил тебя лететь слева направо? Дрянь маленькая, хоть и с крылышками…
Просека уже кончалась, ещё чуть-чуть и дорога вольётся в Залесье. Червячком заползла в сердце тревога… Эх, да что уж там! Сделанного не воротишь. Сам же хотел этого, теперь не откажешься.
Руна уже чем-то занималась возле изгороди. Снег, что ли, откапывала, чтобы вьюн рос быстрее? Грач попридержал конька: хотел неслышно подъехать, чтобы та не обернулась раньше времени – боялся стушеваться, встретившись глазами.
Руна услышала всадника и обернулась. Что-то нежное и лаковое показалось Грачу во взгляде.
– Цветик, привет! – она улыбнулась. Она поправила волосы, сколотые заколкой в форме черепашки.
– Привет…
– Смотри-ка, вьюночек помёрз, нижние листики скукожились, – Руна по утренней прохладе была в тёплой медвяно-жёлтой кофте, расшитой листьями и травами. Ей было к лицу – она юна, красива.
– Да, вьюнок помёрз, – сказал Грач. – «Не нашла еще. Как жаль. Поторопить?» – Рун, – позвал он. – Ты подарок мой часто берёшь?
– Подарок? – смутилась Руна. Его настойчивость выглядела невежливой. – Беру, конечно.
– А ты почаще бери, – попросил он. – Ладно? Я… я для тебя старался. Может… может найдешь что-то, я надеюсь, приятное.
– Да? – переспросила Руна.
Грач приободрился, осанисто вытянулся, сидя в седле. Вот, жаль, подумалось, что письмо написано. Вот сейчас он так в себе уверен, что мог бы и сам объясниться. Но… раз письмо написано, то пусть всё идёт, как затеяно.
– Повнимательней посмотри, договорились? – посоветовал он. Руна взглянула на него так, как будто он не здоров.
Грач сделал круг по Залесью. «Я знаю Руну, она сейчас бросится искать, что же там любопытного. А когда найдёт, то растеряется. Выйдет ко мне не сразу. Смутится и будет говорить сбивчиво. Вот тут-то я подхватываю, и говорю, говорю, не переставая…»
После первого же круга Руна встретила его с запиской в руках. Листок был расправлен и весь в частую складку. Руна вышла в проулок, а калитку за собой закрыла – Грач это заметил.
– Ну, я нашла! – заявила она со смехом и встряхнула запиской. В её волосах была всё та же заколка, на плечах – та же кофта, вот только цвет её показался Грачу не таким уж и сладким.
Грач соскочил с коня.
– Я очень рад… – дыхание перехватило, он глубже вдохнул: – Поверь, мне есть, что добавить, посмотри на небо и на облака! Их я могу позвать в свидетели того, что ты на самом деле многое для меня значишь…
Руна замотала головой так, что даже волосы, тёмно-каштановые её волосы растрепались:
– К сожалению, я должна, – она настойчиво перебила его, – я просто обязана огорчить тебя и сказать «нет». Понимаешь, Цветослав? Нет! Не сейчас и никогда, – она поёжилась, кутаясь в медовую свою кофту.
…Как это красиво! – любовался Грач. Зелёные травы и листья по медвяному полю… Как хотелось, чтобы мечта стала правдой…
– Я знаю, Руна, я этого ожидал, – Грач собрался с духом. Наверное, он мог бы ещё долго нести про облака и небо. – Вот только, Руна, всё, что я к тебе чувствую, от этого не переменится…
Руна с укором замотала головой и второй раз перебила:
– Цветослав, я же тебе объяснила! – она неодобрительно всплеснула руками. – Мне было бы, конечно, приятно, если бы за мной ухаживал такой парень. Но у меня уже есть, – сообщила она радостно и не без самодовольства, – есть любимый! Это же Златовид. Разве не знаешь?
Вдоль оград зеленела, но еще не цвела сирень. Первая пчела облетела заколку-черепашку и медвяную кофту и с налету бухнулась в снег. Грач поддел её носком сапога.
– Я, собственно, догадывался, что это так, – он сам удивился, до чего же охрип его голос.
– Вот видишь! – ухватилась Руна. – А у нас с ним всё так серьёзно, мы гуляем, он меня любит и… и вообще!
Ну вот. Что тут спорить. Пора уезжать. Грач тронул за повод Сиверко. Неумолимый язык требовал чего-то, что подвело бы итоги. Нет бы расстаться попросту – ну, всё, мол, пока…
– Говорят, за рекой Смородиной живут рыцари, безнадежно влюблённые даже в жён своих королей…
– А я так не могу! – взорвалась ни с того ни с сего Руна. Грач остановился. Он видел, как глаза её, до поры серые, подёрнулись желтизной с прозеленью – той самой, что так особенно томила и влекла Грача. – Тайком от всех, от людей, от матери – нельзя любить тайком. Это противоестественно, пошло и нездорово.
– Почему тайком-то? – Грач поразился.
– Да потому что! – отрезала Руна. Овладела собой и, подняв руки, стала поправлять волосы. – В такой ситуации, – заколка-черепашка была зажата в её губах, – тебе лучше пересмотреть своё ко мне отношение!
Грач нахмурился: разговор повернулся какой-то крайне неприятной стороной.
– На твоём месте – отчитывала Руна, – ну, окажись я в твоём положении, я бы непременно посоветовалась с кем-либо об этих… твоих… чувствах. Ты с Бравлином дружишь! Вот с ним и посоветуйся. Понятно?
Тон Руночки раздражал. Слышалась в нём напускная многоопытность.
– Спасибо за совет, – обронил Грач.
– А какого ещё совета ты ждал! – ахнула Рунка. – Ты думал, я закричу: «Ах, Цветик, как это хорошо, я так рада!» Скажу тебе, что в этом отношении было бы лучше, если бы ты ко мне не писал. Твоё письмо меня огорчило! Что скажут люди, ты подумал? Хочешь, чтобы про нас говорили? Мол, ещё в детстве жили, рядышком ночевали – видать было кое-что, то самое, раз поженились!
«Рунка, Рунка, – поморщился Грач. – Куда же тебя понесло? Что же – я и полюбить тебя не вправе? Разве многого прошу? Я же уступаю с каждым словом. Уже ни согласия, ни взаимности не жду. Но самоё право-то любить оставь мне. Не марай, не топчи его».
Ничего этого не сказал Грач вслух. Не к месту это было, напрасно. А отстоять чистоту чувств попытался:
– Подожди, Руна, ну, подожди! А как же все песни, сказки? Купава и Радим – они же с детства друг друга любили…
– Ой, ладно тебе, придумал ещё! – Руна отмахнулась. Наверное, она казалась себе весьма убедительной. – Когда всё это было-то.
За окном её дома звякнуло. На подоконник вскочила подаренная собачонка и мелко затявкала. Руна досадливо поморщилась, иду, мол, иду. Не хватало ещё, чтобы к окну подошла Власта. Выйдёт поздороваться – придётся, не встречаясь глазами, объяснять и состоявшийся разговор, и теперешнее своё настроение…
– Ладно, Рун, – он успокоил топтавшегося Сиверко, расправил стремя и, готовясь подняться в седло, опять всё испортил: – Одно скажу: после этого разговора всё останется как было, и я…
– Ну, уж и нет! Как было, всё остаться не может, – в запальчивости, будто отстаивая что-то главное, заявила Руна. – Цвет, я, конечно, понимаю, что в твоём положении – после суда над тобой – у тебя не было девушек, вот ты и решил…
– Да, ты права, молодец, – он вскочил в седло.
– Ну вот – обиделся! – успела сказать Руна.
– Нет-нет, что ты. Всё в порядке, – бесцветно обронил Грач, вместо плети рукой подстёгивая Сиверко.
Всё быстрей и быстрей. Уже ветер свистел в ушах, а Грач всё поддавал жеребчику сапогами. Улицы и дома мелькали по сторонам. Тётка с ведром шарахнулась и закостерила его вслед. Стайка девчат и пареньков россыпью полетела с перекрёстка. Схватиться бы, сцепиться бы сейчас с кем ни то хоть на кулаках, хоть на арапниках. Но только чтобы до крови, чтобы до звона в ушах, чтобы зубы вон. Так бешено и остервенело дрались тогда – в те самые годы, до суда, как сказала бы Руночка. Без правил дрались, без пощады, проигравшему – смерть и позор. Не с ясной головой дрались, с одурманенной…
Грач углядел, что в раже делает второй круг по Залесью. Вот-вот и откроется всё та же улица и дом Руны. С яростью рванув повод, Грач сбил жеребчика с ноги, тот закрутил головой и на бегу вскочил за чьи-то ворота, на чей-то двор.
«Надраться бы сейчас, чтобы искры из глаз и дым из ушей», – пожелал Грач.
Из дома, у которого встал Сиверко, тянуло знакомым горьким, но терпко-сладким запахом. Здесь жила тётка Щерёмиха, известная тем, что тайком варила маковый дурман, от которого тянуло в блажной хохот. Грач въехал в калитку, едва ли не на огород – благо широко, лишь сапогом царапнул по стойке. Чёрная остроносая баба медленно подняла голову.
– Щерёмиха, что у тебя есть? – гаркнул он. – Чем травишь – беленой, взваром мухомора?
Щерёмиха медленно подошла. Щурясь на солнце, взялась за его стремя и заглянула в лицо из-под чёрного платка.
– Э-э, парень, – укорила, – да у тебя голова не на месте.
– Тебе-то что, Щерёмиха? – хорохорился он.
Та фыркнула и вытащила откуда-то из-под плахты, из-под бабьего шугая флягу.
– На-ка хлебни, – посоветовала. – Отрезвляет.
Грач хлебнул, сколько мог. Резко обожгло горло, в голове зашумело, он подавился, закашлялся. Щерёмиха отобрала флягу.
– Хватит с тебя! Заешь, – сунула ему холодную пареную репу. – Давай, Грач, давай! – сама развернула коня к воротам и хлопнула по седлу. – Рано тебе сюда, не дожил. Езжай отсюда. Езжай, езжай! – выпроводила. Потом крикнула вслед: – И голову береги! Очумелый…
Что это – снова чей-то сон или чья-то явь? Чужие воспоминания или морок дурмана?
Как действовал дурманный мох, если его соскоблить со стен и выкурить, Зверёныш видел перед собой. Человек скрючился на земле и бормотал. Иногда он вскидывал голову, и факел освещал лицо, тогда было видно, что глаза у него налиты кровью. Каждая жилочка, каждый сосудик в глазах и на веках набухли и увеличились. Человек мотал головой, а губы у него были сухие и в трещинах. Зверёнышу он был противен и мерзок.
Отсвет факела прыгал по корявым сводам – точно рудник шевелился. Каторжники, свалившись, где придется, кряхтели и стонали. В забое тишины не было. Те, кто спал, маялись во сне, стиснув зубы. Тускло посверкивали сваленные у отвалов породы кирки и тачки.
Человек хохотнул. Он вечно смеялся, но это не смех, а судорога. Судорога корчила лицо в бессмысленную улыбку, а из горла исторгала беспричинный хохот. От него пахло горелым мхом. Мох рос повсюду – на стенах, на потолке, на полу рудника, везде, где сыро. Тот человек скоблил мох и либо курил, либо варил в кружке над факелом крутой отвар, завернув мох в кусок портянки.
Зверёныш и сам попробовал мох. От одного глотка отвара сделалось душно, томительно, жутко и страшно. Померещилось, что тело ему не подчиняется, а живёт своей жизнью. Лица каторжников слились вдруг в одно, и лицо усмехнулось: «Что? Голова от рук отстала?» – «Не-е», – солгал Зверёныш и больше ко мху не притрагивался.
– Травишься? – Зверёныш пхнул ногой человека с красными глазами. Тот только отодвинулся и вытянул ноги в цепях.
– Мне мо-ожно, – он растягивал слова. – Я за Сте-епью воевал, – он шарил вокруг себя руками, будто слова выбирал на ощупь: – А за Сте-епью можно, там все-е курят.
– За что заковали-то? – не отставал Зверёныш. Хотелось сцепиться с ним просто так, от раздражения. – Все без цепей, а его, видишь ли, заковали.
– Буйный был… Я же ра-атник. Нам мо-ожно.
Зверёныш плюнул и отполз спать на другое место. С шипением падали с факела и дымились горящие капли масла. Копоть оседала на камни…
Кто-то завыл, закричал – не дал заснуть. Кричал каторжник – худой, сухой, желтолицый:
– Заре-е-ежусь.
Давешний кандальник зажмурил красные свои глаза и протянул:
– У-у, как он воет, цветнó воет – желтó… Во, а теперь по-синему воет, с зеленцой, – выкуренный мох рождал у него видения. – Говорил: не кури плесень, ломота придёт, крутить станет… Он теперь ломоту видит… У-у, как видит: землю тронуть больно,… рукой повернуть больно…
Под его бормотание всё угомонилось. Факел чадил и угасал. В резко уходящей вверх штольне свет его терялся. Зверёныш с тоской поглядел туда, во тьму, и зажмурился. Неба – в этот час ночного и, может быть, лунного – не видно. Под штольней, где валялись кирки и тачки, лежали короба с горной породой. С вечера их должны были поднять на верёвках, сплетённых в жёсткие косы, но в этот раз оставили. Наверное, наверху поленились… А в коробах дневная выработка, а выработка определяет пайку… а пайку хлеба спускают раз в сутки…
Вскочил Зверёныш от оглушившей его тишины. Обкурившийся кандальник спал, и тот желтолицый с сухой, струпной кожей затих и не выл. У коробов с породой сгорбились трое. Косой свет факела прыгал по их затылкам и заросшим лицам. Те трое воровали дневную выработку в свои короба. Короб Зверёныша был почти пуст.
– Уроды! – взвился Зверёныш. – Гады! Выродки!
Треснувший голос разлетелся по забою, перебудил каторжных. Те трое шарахнулись, матерясь и опрокидывая короба. Выработка руды рассыпалась. Зверёныш пружиною вскочил на ноги, рука нерассудочно подобрала кайло. Он кинулся вперёд к будущей пайке хлеба и к ворам, укравшим её, ещё неполученную.
Забойщики окружили их, загоготали, дразня и распаляя. Лохматый каторжанин оскалился на Зверёныша и, не опуская глаз, нагнулся, поднял с земли кирку. Кайло оттягивало Зверёнышу руку, он перехватил его, держа перед собою как меч. Все улюлюкали, предвкушая забаву.
– Струсь! – хрипло посоветовал каторжанин с киркой.
Зверёныш кинулся в бой. Кирки звякнули, сцепились. Кайло рванули у него из рук. Зверёныш удержал, но боль волною пронизала все кости. Он отцепился, ударил кайлом и снова промахнулся. Кирка чуть не впилась ему в плечо, он увернулся. Под ноги попал камень от рассыпанной руды. Кто-то другой ударил киркой в его кайло, он выронил и кинулся в рукопашную.
Те трое бросились на него разом. Он рвался к горлу противника, грыз вонючую бороду. Какое-то время держался на ногах, но когда с трёх сторон стали колотить в рёбра и по почкам, он упал, увлекая с собой каторжника. Чёрствые как деревяшки руки ухватили Зверёныша за горло. Он бился ногами, но воздух вдруг начал чернеть. «Наверное, факел гаснет», – подумалось.
Чья-то рука сорвала с него душегубца. Горячий воздух судорогой вернулся в грудь. Та же рука ухватила его за голову, за грязные, едва отросшие волосы и отшвырнула прочь. Над собой он разглядел кого-то лысого, с клоком волос на темени и с бычьей шеей. С грохотом и звоном Вольга стегал каторжных кандальной цепью.
– Вольга? – просипел, щупая горло, Зверёныш.
Каторжник налетел на Вольгу, грозя огромным куском руды. Факел, угасая, вспыхнул, осветил сжатые губы и вислые усы Язычника. С потягом и перезвоном, точно саблей рубил, взмахнул Вольга цепью, опуская её на руку каторжника. Что-то хрустнуло, камень из неё выпал, и каторжник, подвывая и нянькая руку, уполз за спины других.
Вольга проследил за ним, выжидая. Тот с этого дня не работник, а перебитая рука будет стоить ему жизни.
– Я – Язычник! – крикнул всем Вольга. В одной руке он держал цепь, в другой – сверкающую, стальную, остро заточенную бритву. – Я здесь – хозяин! Всех вразумлять, что ли?!
Шум повитал над головами, обмяк и угас. Чумазые, рваные, измождённые забойщики притихли, сникли, увяли. В забое появилась власть. Язычник оглядел всех и каждого и остановил глаза на желтолицем, что неестественно молча лежал всё на том же месте. Язычник выбросил цепь, подошел и поднял у желтолицего руку. Даже в полутьме видны были синие пятна у того на лице, вокруг носа и рта. Рука стукнулась оземь. Кто-то среди ночи принёс желтолицему желанную плесень, и он принял её чересчур много…
После, когда Зверёныш смог внятно говорить, а Язычник занял лучшее – под горловиной штольни – место, Зверёныш подошёл и встал рядом – в трёх шагах, молча глядя поверх головы Вольги и потирая рукой горло. Он шумно дышал и скалил по привычке зубы, пока Язычник не поднял глаза и не бросил раздражённо:
– Что?!
– Откуда ты? – прохрипел Зверёныш. – Тебя плаха ждала…
– Жалеешь?! – оборвал ушкуйник.
– Н-не… – Зверёныш сглотнул, давясь от боли в горле, – н-ненавижу, – выдавил о чём-то своём. – Ты… ты спас меня!
Язычник оглядел его искоса и чуть брезгливо:
– Плаху заменили, – объяснил наконец. – Черепов на кольях у них своих много. Опричнина… А руды мало. Руду они больше ценят.
Сверху, из горловины штольни, засвистела утренняя дудка – приказ пробуждаться, брать кирки и долбить камень. Со скрипом потянулись наверх короба с вчерашней выработкой. Пайки хлеба спустят лишь в полдень. Кряхтя и жалуясь, каторжники потянулись вглубь забоя.
– Я из другого забоя, – бросил на ходу Язычник. Зверёныш остановился. – Там штрек пробили и забои соединились. Там эти твои, как их… Ярец с Путьшей. – Зверёныш напрягся. Язычник ещё раз походя бросил: – Я чертёж раздобыл. Как другие забои связать штреками. Это до поры, до времени.
Кайлом Язычник бил наотмашь. Порода в стене трескалась и обрушивалась кусками и крошевом. Зверёныш сгребал всё в одноколёсную тачку и, согнувшись, пробежкой укатывал поближе к штольне. Глиняная и каменная пыль висела в воздухе, её вдыхали, она садилась на чёрные лица, плечи, бороды. Всюду стояли жалобы, стук, звон и грохот отколотой или сгружаемой руды. Язычник – полуголый, чёрный – работал зло, страшно, точно не стену крушил, а того, кого сам себе воображал. Зверёныш, проклиная неведомо кого, катал тачку, отваливал породу и грозился кулаком кому-то наверху, в горловине штольни…
Когда пришла ночь и дудка неохотно приказала каторге спать, у Зверёныша подогнулись ноги, и он ничком упал поперёк тачки прямо на середине пути. Никто не подошёл. Каторжники волочили кирки мимо, не оборачиваясь. В тот день умерло ещё двое – молодой да старый. В каторге мрут часто, как по расписанию, слабаки – ещё новичками, а дюжие, те на третий-пятый год – от истощения, темноты и мха-дурмана.
Зверёныш подтянулся, пополз, потом побрёл и побежал к штольне, к чадящему факелу. Не дойдя десятка шагов, упал и так на четвереньках добежал до Язычника. Язычник брился… Это выглядело дико и странно среди заросших и завшивевших каторжан. Вольга расходовал ледяную воду, сочившуюся из стен, смачивал голову и щёки и скоблил их сверкающей бритвой. Сидел он у стены, под факелом, и в пяти шагах от него, как возле признанного вожака, никого не было.
Зверёныш подполз к Вольге, усмехнулся дурной ухмылкой и выговорил, презрительно растягивая слова:
– Ты спа-ас меня, спа-ас… Н-ненавижу.
Язычник стряхнул с бритвы ошмётки и поскоблил ею о кожаный ремень. Зверёныш оскалился и потянулся с четверенек к его уху, но не достал и зашептал в плечо:
– Знаешь, что я сделаю, когда выберусь отсюда?
– Знаю. Кинешься с киркой на охранника, и он тебя зарежет, – Язычник был циничен и злобно спокоен.
– Не-е-ет! – лающе засмеялся Зверёныш. – Э, не-ет! Я снова пойду к кудеснику Нилу и душу из него вытрясу, но Камень Власти добуду. Слышишь? Вот как небо светло, как Судьба наша проклята, так вот тебе клянусь: Царь-Камень… у Нила… вытрясу…
Язычник отложил бритву, повернулся к скалящемуся Зверёнышу, наклонился и задышал ему в лицо:
– Откуда ты, Зверёныш, а? Что ты – плоскогорец, я раскусил. А кто ты? Злой, живучий… Правда, что ли, у кудесника был?
– Был, клянусь тебе…
– И что Царь-Камень на свете есть – то же, что ли, правда?
– Сущая! Живой он! Власть даёт! – заторопился Зверёныш. – А теперь спит, и если проснётся – беда будет, а владельцу так нет, наоборот, даст надо всеми власть и все дела за него свершит.
– Сам, что ли, видел? – резко спросил Вольга. – Царь-Камень-то?
– Прячет он его, – выплюнул Зверёныш. – Был я у него с моими молодцами. Слова от него не добился. Ничё-о, вырвусь отсюда – душу из него вытрясу. Что? Не веришь? Брешу я?
– Ты это, – Язычник показал бритву, бритва сверкнула в свете факела, – про Камень да про Нила молчи до поры. Я же – Язычник, а что я болтунам делаю? – бритва поблёскивала в его руке.
– Так и я не тюфяк! – он огрызнулся. – Я сам – Зверёныш! Ясно тебе?
Парень был зол. Он скалил зубы и хрипел горлом. На грязных жёлтых волосах сидела пыль, а глина и грязь кривыми полосами размазались по лицу.
– Не, ты не Зверёныш, – вдруг оценил Вольга. – Прямо зверь взбесившийся. Любопытно мне, откуда ты такой взялся. Мамка-то тебя как нарекла?
– Златка я, Златка – запомни, – не остыл ещё Зверёныш. – Хоть мамки не помню, и батьки тоже. Бабка меня кормила. Ясно тебе? Запомнил, ушкуйник?
Бритва чиркнула перед носом Зверёныша, холодный свет от неё полыхнул в глаза. Вольга едва не отсёк ему пол-лица.
– Не кусайся! – приказал Язычник. – Ценю это, не спорю. Но не терплю.
Спокойно и старательно продолжил бритьё Язычник. Он скрёб голову, тщательно обривая оставленный длинный клок на темени, клок светлых жёстких волос, висящих на сторону, до мочки левого уха, брил щеки, подбородок, горло, оставляя долгие, висячие усы на землистом, с оспинами, лице. В левом ухе поблескивала не вырванная палачами серьга-кольцо.
«Остынь», – велит сейчас кто-то. Может, это Язычник – Зверёнышу, а может, кто-то другой и не здесь. Чужой сон забывается, чужая явь перестаёт грезиться. «Остынь и голову береги! Очумелый…»